Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.
§2. Мир животных
1. Сложный соматический БУС (сложный автомат, управляемый инстинктом).
Сложный БУС является органом управления примитивных животных.
Системы получаются из растений путем добавления ДР, «базы знаний и решений
инстинкта» и опорно-двигательного аппарата (рис. 37). Сложный соматический БУС
имеют те системы, которые могут «подстраиваться» под ситуацию окружающей
реальности за счет собственных поведенческих реакций. При этом все функции
предыдущих БУС (простейшего, и обоих простых) в сложном БУС также присутствуют.
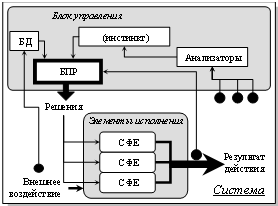
Рис. 37. Блок-схема системы с сложным БУС.
Система (подсистема) обмена веществ не представлена, хотя присутствует во
всех реальных системах мира животных и человека. БД – «база данных»; БПР – блок
принятия решений; инстинкт – «база знаний и решений инстинкта».
Цель сложного автомата мира животных – адаптация к ситуации окружающей
реальности. Примитивные животные реализуют право на действие в
окружающей реальности по закону: «быть там, где пища».
Но этот закон должны соблюдать все животные, поэтому они сами, в свою
очередь, могут быть пищей для других систем. Поэтому этот закон породил другой
основной регулирующий мир животных закон – закон джунглей (побеждает
сильнейший).
Цель достигается за счет восприятия окружающей реальности, ее оценки и
принятия решения инстинктом, и работы опорно-двигательного аппарата животного
(элементы исполнения сложного соматического БУС) для перемещения тела животного.
Однако, во время действий тело животного (система) и все внутренние структуры
подвергаются закону отрицательной энтропии и разрушаются. Поэтому в организме
этих животных, как и в организме растений, есть простой вегетативный автомат,
реакция которого направлена на изменения не в окружающей, а во внутренней
реальности. Его цель та же – восстанавливать разрушенные структуры системы, и он
реализует то же право на точное действие внутри системы по закону:
«каждая разрушенная структура должна быть восстановлена» и по тому же
закону простого автомата – «сколько нужно, столько будет сделано», с
точностью до одного кванта действия его СФЕ.
Следует заметить, что с момента появления животных у них начинают появляться
внутренние органы – сложные многоклеточные образования для реализации более
сложных функций системы обмена веществ. Поэтому только простого вегетативного
автомата, который является внутриклеточным, для управления многоклеточными
образованиями уже недостаточно и у животных стал развиваться сложный
вегетативный автомат, описание которого приведено далее. Но его цель та же, что
и у простого вегетативного автомата.
Целью подстроек к ситуации является не выработка целевого результата
действия, а создание условий окружающей реальности, в которых возможна выработка
целевых результатов действий. Цель достигается счет поведенческих реакций
системы (за счет движений самой системы) – сложных стереотипов
действий системы, меняющих ситуацию в благоприятную для нее сторону. Для этого
сложный соматический БУС выполняет несколько действий, состоящих из ощущения и
дальнейшего восприятия ситуации окружающей реальности, автоматического
нахождения в памяти инстинкта решения о своих действиях, соответствующего данной
ситуации и стимуляции элементов исполнения (опорно-двигательный аппарат) для
выполнения стереотипов действий. Для этого у сложного БУС, в отличие от
простого, есть дистанционные рецепторы (ДР) с анализаторами и «база знаний и
решений», потому он и сложный.
БПР сложного БУС выполняет больше функций, чем БПР простого БУС. ДР позволяют
ему «видеть» окружающую ситуацию и действовать нужным для него
образом еще до появления внешнего воздействия, получая определенное
преимущество. Этими рецепторами могут быть как самые простейшие, например, хемо-
или электрорецепторы, так и очень сложные (глаза, уши). В любом случае эти
рецепторы несут информацию об окружающем пространстве.
Вокруг системы всегда находится великое множество других систем и их
результатов действий и в первую очередь среди них необходимо отметить только
значимые. Только одних дистанционных рецепторов для этого недостаточно, какими
бы сложными и совершенными они ни были. Нужно сделать селекцию
сигналов из того множества сигналов, которые поступают к системе, определить
направление, откуда приходят интересующие сигналы, цвет, форму (если
это зрение) и т.д.
Всем этим занимаются анализаторы. Если ДР рассчитан на вкус или
запах (химические рецепторы), это вкусовой или обонятельный анализатор, если это
звук, то слуховой, если свет, то зрительный. Каждый анализатор анализирует и
выделяет окружающую ситуацию того типа, на который расчитан.
Но и этого мало. Ну, увидела система окружающую ситуацию, но она же не знает,
плохо это для нее или хорошо, ей нужны оценка и прогноз ситуации. Если она не
знакома с ситуацией, она ее не распознает и будет мало чем отличаться от
растений. Но если у системы есть уже готовая «база знаний и
решений», в которой находятся описания параметров различных ситуаций с известным
для каждой из них прогнозом и соответствующим решением, то
сравнивая реальную ситуацию с описанной в «базе знаний» она сможет выбрать
соответствующее решение. Для этого у блока управления должна быть готовая
«база решений», чтобы увидев и распознав ситуацию и приняв решение, сразу же
знать, что делать: бежать от ... , или догонять? Содержимым этих «баз знаний и
решений» является инстинкт, который система получает извне в
готовом виде при рождении. Инстинкт из «базы знаний и решений» загружает в «базу
данных» параметры тех действий, которые соответствуют готовому решению о
поведенческих реакциях и система выполняет эти действия. Причем, загружает не
отдельные параметры действий, а стереотипы действий – комплексы
действий, определенные очередности отдельных действий, которые система должна
выполнить в соответствии с ситуацией.
Системами с сложным блоком управления, управляемые только инстинктом,
являются самые примитивные животные, которые отличаются от растений тем, что
могут целенаправленно двигаться в пространстве, управляемые инстинктом. Сами они
никаких решений не принимают, за них все решает инстинкт. Такими животными
являются примитивные животные, не способные самообучаться, но способные
передвигаться и имеющие простейшие дистанционные рецепторы, в основном,
хеморецепторы (хемотаксис): кишечнополостные (если у них есть инстинкт),
насекомые, черви, хордовые и пр. Считается, что первые из них появились еще в
конце неопротерозойской эры в эдиакарский период около 542 млн лет назад, хотя
кислородная атмосфера появилась на Земле почти на 2 млрд лет ранее (2,3 млрд.
лет назад) в результате деятельности архейских анаэробных бактерий, а кислород
является основой для активных движений, присущих животным, потому что только
сгорание органики в кислороде может обеспечить достаточным количеством энергии
любое мышечное сокращение. Животные отличаются от растений, в том числе,
наличием мышц, которые для своих сокращений требуют много энергии. Тем не менее
нет признаков, что они появились раньше, чем 0.5 млрд лет назад, потому что на
всех обнаруженных окаменелостях более ранних периодов нет признаков хищничества
(повреждений от зубов), за ними никто не охотился. Животные не могут питаться
как растения, используя только фотоавтотрофию и хемоавтотрофию, питаясь только
простыми химическими соединениями. Для их питания необходимы высококалорийные
продукты – белки, жиры и углеводы, которые могли поставлять только растения или
другие животные. Если бы в докембрии были животные, то на многих окаменелостях
должны были быть следы их поедания, чего пока не обнаружено. Следовательно,
эволюция животных насчитывает не более 0.5 млрд лет.
Поэтому есть довольно большой разрыв по времени между появлением первых
растительных клеток и появлением животных, около 3 млрд лет: от палеоархея 3.6
млрд лет назад, когда появились первые живые клетки, до позднего эдикария или
раннего кембрия около 0.5 млрд лет назад, когда достоверно уже были животные.
Все эти 3 млрд лет царствовали только растения и потом вдруг появились животные
с уже готовым инстинктом?
В природе ничего не появляется вдруг и еще в мире растений должны были
зародиться переходные формы, которые во многом еще были похожи на растения
(полное отсутствие целенаправленных движений, потому что у них были элементы
управления растений – простой соматический БУС), но у которых уже
появились элементы исполнения животных (элементы
опорно-двигательного аппарата и нервные клетки). Их отличительными признаками
должны были быть активные и не целенаправленные (хаотические)
движения и наличие нервных клеток. Движения указывают на наличие
опорно-двигательного аппарата, а из нервных клеток должны были в дальнейшем
образоваться «базы знаний и решений инстинкта» (инстинкт), которые управляли
стереотипами движений животных. На протяжении многих сотен миллионов или даже
миллиарда лет эти системы (полурастения-полуживотные) двигались хаотично, но
набирали опыт, заполняя зарождающийся инстинкт описанием параметров значимых
ситуаций и решений о необходимых стереотипах двигательных реакций
(поведенческих реакциях) в этих ситуациях. Когда появился сформированный
инстинкт, движения систем из хаотических превратились в целенаправленные,
системы из растений превратились в животных. Таким образом, инстинкт потребовал
для своего появления и развития гигантский промежуток времени, возможно, около 1
млрд лет.
Следовательно, где-то между 2.3 млрд и 550 млн лет назад уже были первые
полурастения-полуживотные, у которых был первичный сложный БУС (нервная система
с пустым инстинктом, но с ДР) и за время около 1-2 млрд лет они накопили знания
для заполнения первого примитивного инстинкта. Что «знает» полип, «морское перо»
или медуза? Но если они делают целенаправленные движения, значит у них есть
поведенческие реакции, значит они что-то «знают», если делают именно эти
движения. Это и есть знания того первого примитивного инстинкта.
Но даже это примитивное знание преобразило живой мир на Земле. У этих систем
есть преимущество перед системами с простыми блоками управления – они
ощущают окружающую ситуацию. Они «видят» системы с простым
БУС (растения), могут подойти к ним (поведенческие реакции) и сделать с ними то,
что предписывает им инстинкт, если они воспринимают окружающую
реальность и могут оценить ее. Это «видение» может быть очень
примитивным, например, химическая рецепция, фототаксис или барорецепция
(ощущение колебаний давления, например, воды). Но в любом случае эти сигналы
несут информацию о ситуации окружающей реальности, создавая в сложном БУС этих
животных образ окружающей ситуации – определенную комбинацию
параметров ситуации окружающей реальности. Сопоставление этого образа с образами
известных инстинкту ситуаций и совпадение этих образов сразу давало сложному БУС
возможность найти решение для любой определенной ситуации, известной инстинкту.
Так зародилось образное мышление.
И хотя первые животные были очень примитивными, буквально растениями, которые
могли двигаться, руководимые инстинктом, те же поведенческие реакции, наряду с
усложнением и обогащением инстинкта, дали им возможность и охотиться друг за
другом. Это заставило системы защищаться от нападений и привело к скелетной
революции — этапу в развитии органического мира, когда в эволюционно
короткий период множество генетически далеких организмов приобрели минеральный
наружный скелет (защитный панцирь). Произошло это именно около 570 миллионов лет
назад, когда появился первый инстинкт и животные стали активно охотится за
растениями и себе подобными. На геохронологической шкале это было началом
Кембрия.
Скелетами для защиты от нападений обзавелись простейшие
(радиолярии и форамениферы), губки, моллюски, плеченогие, кораллы, трилобиты, а
также известковые водоросли. Самим организмам обладание скелетами заодно
позволило вырастать до больших размеров и при этом активно перемещаться, потому
что наружный скелет хорошо защищал плоть систем от поедания и разрушения другими
системами. А в перспективе наличие скелета предопределило выход систем на сушу.
Предпосылкой появления животных стало наличие свободного кислорода в воде, что
позволило организмам активно двигаться и развиваться.
Это привело к разгону эволюции и очень большому разнообразию таких систем: от
желеообразных и физически очень слабых и незащищенных полурастений-полуживотных
(полипов и медуз), но у которых очень развит химический способ охоты и
самозащиты (парализующий эффект секрета стрекательных клеток), до очень сложных,
покрытых очень твердым хитиновым панцирем (наружный скелет) и хорошо вооруженных
насекомых с очень хорошим двигательным аппаратом и очень сложными поведенческими
реакциями, которые диктуются только целесообразностью, т.е., способностью
содействовать достижению цели. Именно усложнение поведенческих реакций послужило
причиной «кембрийского взрыва» – «...внезапного (в геологическом смысле)
появления в раннекембрийских (ок. 540 млн. лет) отложениях окаменелостей
представителей многих подразделений животного царства, на фоне отсутствия их
окаменелостей или окаменелостей их предков в докембрийских отложениях...
[60]». «...отсутствие ... окаменелостей их предков в докембрийских
отложениях...» объясняется тем, что первые полурастения-полуживотные не
имели скелета, потому что за ними еще никто не охотился, они были в виде
сгустков геля и их следы не сохранились на протяжении полумиллиарда и более лет.
Абсолютно все животные являются хищниками. Согласно принятым
определениям, хищником является «... животное или другой организм (например,
хищные растения), основной частью рациона которого являются живые животные...
[60]). Если принять классификацию теории систем, то это определение
прозвучит несколько иначе: «хищником является «... система, основной частью
рациона которого являются другие системы ...». Т.е., хищник – это система,
поедающая другую систему. Отсюда все живые системы являются хищниками, потому
что они все поедают другие системы (захват). Только одни поедают системы с
простым БУС (минералы и растения), другие с сложным БУС (животных), кому что
удается. И все плотоядные, потому что плоть растений – это тоже плоть, потому
что состоит из жиров, белков и углеводов, хотя и включает целлюлозу, которая
играет роль скелета растений. Пищей может быть либо плоть (растений или
животных), либо простые химические соединения. Животные питаются плотью, а
растения – простыми химическими соединениями.
Состав сложного соматического БУС (состав элементов управления
систем):
тот же простой БУС с управлением системы обмена веществ,
дистанционные рецепторы (ДР) и
«база знаний и решений инстинкта».
Алгоритм сложного соматического БУС (рис. 38).
Алгоритм работы его БПР отличается от алгоритма БПР простого БУС с
управлением системы обмена веществ тем, что к БПР добавляются еще два блока
элементов – блок элементов восприятия (анализаторов) и блок «баз знаний и
решений» (память), которые связываются с БПР через связи «хочу» и «не хочу». Его
цель-стремление также «встроена» в его структуру, но уже определяется не только
его внутренними связями, но и «базой знаний и решений инстинкта».
Анализаторы привносят элементам сознания информацию о реальной
ситуации в окружающей реальности еще до внешнего воздействия на систему, а «база
данных и решений инстинкта» заполнена описанием возможных
ситуаций, которые могут быть в окружающей ситуации и для которых извествен
прогноз и решения в связи с каждым прогнозом.

Рис. 38. Алгоритм работы сложного соматического БУС с
системой управления обменом веществ у систем мира низших животных.
БД – «база данных»; РД=должный – результат действия равен заданному и
описанному в «базе данных»; ВР должная – внутренняя реальность должная;
восстановление ВР – восстановление внутренней реальности: инст. стереотип –
инстинктивный стереотип действий.
Для БПР в сложном блоке управления задания цель еще больше усложняется – не
только выделить определенное внешнее воздействие, но и предупредить его. Если
внешнее воздействие уже началось, то все прежние цели БПР, характерные для
простого БУС, сохраняются, потому что схема алгоритма БПР сложного блока
управления почти не изменилась. У него по прежнему есть те же внутренние связи и
«база данных» (БД), которая содержит заданные параметры результата действия.
Но имея ДР и «базу знаний и решений инстинкта» БУС воспринимает ситуацию
окружающей реальности и, используя параметры этой ситуации, автоматически
находит описание таких же параметров известной ситуации из того набора, который
находится в «базе знаний и решений инстинкта» и решение, которое соответствует
этой ситуации.
Принцип инстинктивного нахождения решения на данную ситуацию – это принцип
полной оценки, полное совпадение параметров актуальной ситуации с параметрами
ситуации, описанной в инстинкте. Процесс поиска решения очень простой: если
параметры реальной ситуации полностью совпали с описанной в
инстинкте, то сразу же, автоматически, этой ситуации в инстинкте
соответствует готовое решение, если не совпали, то реальная ситуация не значима
для системы и решения для нет. Поэтому сложный БУС является сложным
автоматом мира животных. Он автоматически находит решение
для своих действий в зависимости от ситуации окружающей реальности.
Могут возразить, что нет двух абсолютно похожих ситуаций, всегда будет
какое-то расхождение и принцип автоматического поиска решения в инстинкте не
должен работать. Но речь идет об очень примитивных животных, в инстинкте которых
описание ситуаций не детальное и подробное, а очень грубое и приближенное. Эти
животные видят Мир не в цвете, и даже не серым, а черно белым и максимально
упрощенным. Для коловратки, которая «своим хемотаксисом» почувствовала наличие
еды слева, инстинкт подскажет ей: двигайся влево. А что там слева, будущее
подкажет. У более сложных и развитых животных инстинкт более сложный и может
включать намного более полное описание очень многих ситуаций. Но для этого у них
и мозги побольше, и на инстинкт накладывается влияние чувств и различных уровней
сознания, которых нет у сложного соматического БУС.
Эволюционная роль сложного БУС.
Роль сложного БУС в эволюции сознания в том, что впервые появилось Я,
которое «увидело», но еще не осознало окружающую реальность.
Роль систем с сложным БУС (примитивных животных) в эволюции Вселенной в
том, что в ней появились объекты, которые могут целенаправленно двигаться в
окружающей реальности для предупреждения ее разрушающего воздействия.
Если роль вегетативного БУС в эволюции сознания в том, чтобы появилось Я,
которое могло бы исправлять разрушения, причиненные окружающей
реальностью, то роль сложного БУС состоит в том, что Я систем может
предупреждать разрушающее влияние окружающей реальности за счет своих
поведенческих реакций.
Для этого нужно делать еще больше действий управления:
выполнять все действия простого БУС с управлением системы обмена веществ,
воспринимать ситуацию окружающей реальности,
находить в своей памяти (в «базе знаний и решений инстинкта») решения,
соответствующие данной ситуации,
реализовывать это решение за счет поведенческих реакций.
Этот БУС постоянно контролирует окружающую реальность и ведет себя в
соответствии с ней. Для этого он использует опорно-двигательный аппарат системы,
основным двигательным элементом которого являются мышцы, который позволяет
выполнять стереотипы действий.
Огромная эволюционная роль систем с сложным БУС также заключается в том, что
охота на себе подобных привела к скелетной революции: сначала появлению защитных
внешних скелетов, а затем и появлению внутренних скелетов, что предопределило
выход активной живности на сушу.
О возможностях инстинкта можно судить по факту вендского фитопланктонного
кризиса: «...разнообразие акритарх, достигнув незадолго до появления
эдиакарской фауны (600 млн лет) своего максимума, резко падает, причем
крупноразмерные формы исчезают полностью... ... кризис возник в результате
появления консументов следующего размерного класса - "циклоп" ( до 2 мм),
составляющих основную массу современного зоопланктона. От этого врага уже не
могла спасти ставшая стандартной стратегия опережающего ухода в следующий
размерный класс - ибо фитопланктон уже «уперся» в физиологический предел
размеров тела. Лишь к началу кембрия фитопланктону удалось дать адекватный
эволюционный ответ на комбинированное воздействие консументов разных классов: с
этого момента (и доныне) доминирующей защитной стратегией для фитопланктоных
организмов становится образование шипов, выростов, экваториальной каймы и т.п...
[14]». Циклопы были животными, были подвижными, видели окружающую
реальность и съели все беззащитные растения, которые были неподвижными и
слепыми, потому и возник вендский фитопланктонный (растительный) кризис.
Растения пассивны, а животные активны и в этом их преимущество.
Функциональные возможности сложного БУС.
Сложный БУС может в определенной мере контролировать окружающую реальность.
Если ситуация угрожающая, то он может удалиться от нее, если благоприятная, то
приблизиться к ней. Таким образом, еще до появления внешнего воздействия система
может предупредить его, если оно разрушающее, или ускорить его появление,
приблизившись к нему, если оно благоприятное. Этим создаются благоприятные
условия для выработки заданного результата действия.
Системы со сложным блоком управления могут быть и пропорциональными и
стабилизации, в зависимости от окружающей реальности, например, усиливать или
уменьшать частоту взмахов крыльев, стабилизируя температуру внутри гнезда
(пчелы).
Возможности сознания сложного соматического БУС.
Основным инструментом управляющих функций сложного БУС являются
безусловные рефлексы (определенное однократное действие на раздражитель
– внешнее воздействие) и сложные рефлексы (инстинкт
– определенная цепь очередных действий, стереотип) на ситуацию окружающей
реальности. Они основаны на использовании ДР для восприятия актуальной ситуации
окружающей реальности и «базы знаний и решений инстинкта», в которой находится
готовое решение о поведенческих реакциях животного, соответствующее актуальной
ситуации. Сознания нет, но есть предсознание, как у растений.
Осознание своего Я. У систем с сложным соматическим БУС, как и у
растений, также есть два Я: Я сложного соматического БУС и вегетативное Я. У
сложного соматичесого БУС есть ощущение своего Я, но нет предсознания, потому
что нет ощущения своей внутренней реальности. О вегетативном Я будет идти речь
ниже.
Как и все ранее описанные Я сложного БУС знает себя, потому что
знает то, что оно хочет (свои «хочу» и «не хочу», свою цель-стремление). Но оно
уже ощущает окружающую реальность, потому что у него есть
дистанционные рецепторы и «база знаний и решений», хотя и не осознает
ее, потому что не оценивает ее. Оценку ситуации проводит не само Я, а инстинкт,
который дает ему готовые решения для каждой ситуации. Поэтому у сложного
соматического БУС есть ощущение окружающей реальности, но нет ее осознания.
Все знания этому БУС заданы в виде инстинкта и все его действия
строго предопределены законами (природы) и запрограммированы тем
же инстинктом, и он задается им готовым извне и всегда один и тот
же в пределах одного поколения. Сам сложный БУС ничего не решает и не выбирает,
его выбор предопределен. Его желание – это желание того, кто или что сделало его
и заполнило его инстинкт (Бог, природа и т.д.), все цели ему заданы извне. У
него, как и у всех предыдущих систем, есть индивидуальная цель-задание. Он также
может получать информацию из внешнего мира через свой РВВ (воспринимать
реальность). Но все его знания об окружающей ситуации – это знания его
инстинкта, который полностью им управляет. Все решения о поведенческих реакциях
– это решения инстинкта. Поэтому у него нет осознания окружающей реальности, но
есть предсознание.
Такое Я, подобно Я растений, еще не осознает окружающей реальности, но, в
отличие Я растений, воспринимает ее и с помощью инстинкта выполняет
поведенческие реакции и целенаправленные движения, в зависимости от ситуации.
Его выбор между хочу и не хочу так же во многом определен внешними критериями,
но часть его решений основана уже на его собственных действиях – оно
воспринимает ситуацию и автоматически принимает предлагаемые
инстинктом уже готовые решения о своем поведении в этой ситуации. Поэтому оно в
еще меньшей мере подвержено разрушающему влиянию внешней среды, потому что оно
может предупредить разрушение. Следовательно, Я (БПР) сложного БУС в еще большей
степени автономно.
Осознание внутренней реальности. У сложного БУС нет осознания своей
внутренней реальности.
Осознание окружающей реальности. У сложного БУС есть восприятие
окружающей реальности и он принимает решения о своих действиях в зависимости от
ситуации, но у него нет осознания окружающей реальности, потому
что все его действия по принятию решения полностью автоматические.
Он не осознает ситуацию окружающей реальности, потому что не делает ее оценку и
не знает ее прогноза, который ему не нужен, вместо прогноза инстинкт дает ему
уже готовое решение. Его поведение полностью подчиняется инстинкту, который был
внедрен в него извне. Сам он делает простейшее мыслительное действие,
единственный вид логических операций – это подбор одинаковых параметров ситуации
и инстинкта по принципу полной оценки. Это первичная форма примитивного мышления
– «трафаретное образное мышление», когда образ актуальной ситуации окружающей
реальности совмещается как с трафаретом с образом знакомой
ситуации из памяти инстинкта.
Это мышление отличается от нашего мышления, у нас в мозгу происходят намного
более сложные «виртуальные игры» с окружающей реальностью, потому что мы сами
управляем процессом мышления, а у систем с сложным БУС этим процессом управляет
инстинкт. Если есть соответствие параметров актуальной ситуации параметрам
какой-либо ситуации из инстинкта (трафаретное совпадение), значит есть готовое
решение, если нет соответствия параметров актуальной ситуации параметрам
какой-либо ситуации из инстинкта, то нет решения, потому что эта ситуция не
значима для животного. А если все же попадется ситуация, значимая для животного,
но не знакомая инстинкту, у животного появляется проблема, потому что у него не
будет готового решения. Животные с сложным БУС отличаются от растений только
автоматическим выбором своих поведенческих реакций и инстинктом, которых нет у
растений. И здесь нет никаких чувств, потому что они сами не ищут решений. Все
их решения – это решения инстинкта, данные им в готовом виде. Поэтому здесь нет
и сознания.
Все его действия предрешены заранее и извне, он таким сделан кем-то или
чем-то и сам он ничего не решает, любое ее действие можно заранее предвидеть.
Да, его действия управляются не только иерархией законов, но и его инстинктом
тоже, но инстинкт задан извне и регулирует поведение системы так же жестко, как
и иерархия законов. Поэтому, зная инстинкт системы можно предвидеть ее
поведение.
Инстинкт позволяет принимать решения «не думая». Животные могут воспринять
окружающую реальность, по ее образу найти в памяти инстинкта необходимое решение
и выполнить его. И у них нет никаких чувств, потому что для выбора решений они
применяют полную оценку ситуации, т.е., все
воспринятые параметры актуальной ситуации должны совпадать со всеми
параметрами известной инстинкту ситуации. Если нет каких-либо совпадений,
ситуация признается неизвестной и для такой ситуации нет решения. БУС не
«додумывает» неизвестные ситуации, как это делают животные с более развитым БУС,
поэтому ему не нужны чувства. Такое становится возможным потому, что ситуация
оценивается по очень небольшому числу параметров.
Если система ощутила химические реагенты, которые говорят о наличии пищи в
каком-то направлении (хемотаксис), то она сразу находит решение о своем
поведении, она «знает», что в том направлении есть пища, это то, что ей надо и в
том направлении нужно двигаться. На основе оценки инстинктом окружающей ситуации
система тут же получает от инстинкта готовое решение действовать и начинает
преследовать свою жертву. Вся ее оценка сводится к определению, пища-не-пища и в
каком направлении. Больше этого систему с сложным блоком управления ничего не
«интересует».
Естественно, что у животных с более сложными БУС инстинкт также более
сложный: материнский инстинкт (инстинкты брачного поведения, родов,
вскармливания и обучения потомства, строительства гнезд и пр.), сосательные
рефлексы, плач и пр. Чем сложнее БУС, тем сложнее инстинкт. У высших животных на
инстинкт накладываются еще и влияния чувств и сознания. Но если отделить эти
влияния и оставить только инстинкт, то принципы инстинкта во всех случаях
одинаковые – образное трафаретное мышление и нахождение готового
решения для известных инстинкту ситуаций на основе их полной оценки.
Такая оценка всегда однозначная и не требует никаких чувств и размышлений: если
ситуация знакома, есть решение, не знакома – нет решения.
Когда крабы на прибрежном песке размахивают друг перед другом своими
огромными по их меркам клешнями, они не пытаются запугать соперника, просто
демонстрируют друг другу размеры своих клешней. Потому у них есть только одна
огромная клешня, другая меньше во много раз. Это их биологическая метка, чем
больше клешня, тем здоровее краб, тем лучше его организм и его гены, тем лучше
будет потомству. У крабов нет чувств и нет страха в брачных играх, у них есть
инстинктивная оценка ситуации и реакция на нее. И если у соперника клешня больше
(организм и гены лучше), то краб с меньшей клешней ретируется без драки, уступая
место и самку сопернику. Тут работает общевидовой закон, а не личные интересы.
Если бы, гипотетически, у краба с меньшей клешней были бы чувства, то ему не
понравилось бы (чувства), что соперник выигрывает, он взвесил бы свои
шансы, учел бы меру своей агрессивности (уровень адреналина в крови, силу своей
воли и пр.) и попробовал бы перевесить шансы в свою сторону. В реальности же
крабы почти не дерутся, а меряются размерами своих клешней, потому что у них
почти нет чувств, а есть инстинкт, который измеряет клешни крабов.
Мы не знаем, что чувствует медуза, но мы можем предположить тот уровень ее
«мышления», который в принципе может быть у нее. У нее нет никаких чувств и
мыслей, потому что у не есть только инстинкт, который по существу является
готовой «базой знаний и решений» и путем образного трафаретного мышления
определяет и классифицирует актуальную ситуацию и предлагает готовое решение,
соответствующее этой ситуации.
У нее не может быть абстрактного мышления и, следовательно, слов, потому что
у них нет абстракторов и им не знакомы абстракции (см. далее). У них нет также
символьного и знакового мышления по той же причине. Поэтому у них нет сознания,
а есть только предсознание и только у их вегетативного Я, как у растений.
Фактически, животные с сложным БУС – это растения, которые уже научились
двигаться, потому что у них появился опорно-двигательный аппарат с мышцами, а
чтобы двигаться целенаправленно, у них появился инстинкт с готовым набором
инструкции, как двигаться и куда, в зависимости от ситуации.
Системы с сложным блоком управления все еще являются объектами,
потому что любые подобные объекты в ответ на одно и то же внешнее
воздействие всегда дадут одну и ту же реакцию, сделают одни и те
же действия и произведут один и тот же результат действия. По
своему поведению они все «на одно лицо», потому что их поведением управляет одна
и та же иерархия законов и один и тот же инстинкт. У таких животных невозможны
игры.
Но они уже на «пути к субъектам». Инстинкт влияет на Я системы и заставляет
принимать решения о своих действиях с учетом окружающей реальности. Их инстинкт
от поколения к поколению меняется и это приводит к различным действиям в ответ
на одно и то же внешнее воздействие, при одном и том же результате действия.
Т.е., системы из одного поколения похожи друг на друга, а из
разных поколений – не похожи.
Наличие чувств и эмоций. У него нет чувств и эмоций, потому что нет
сознания.
Недостатки сложного БУС.
Основным недостатком сложного БУС является ограниченность «базы знаний и
решений инстинкта». Невозможно иметь «базу знаний и решений», в которой описаны
все ситуации, которые уже были, есть и еще будут в Мире и, тем более, нет
готовых решений на эти ситуации. Ни одни мозги не смогут вместить в себя такой
огромный объем информации. Если система не распознает ситуацию окружающей
реальности потому, что нет ее описания в «базе знаний и решений инстинкта», то у
нее может возникнуть серьезная проблема с угрозой для ее жизни.
2. Самообучающийся БУС (примитивная личность мира животных).
Самообучающийся БУС имеют те системы, которые так же, как и системы с сложным
соматическим БУС, могут «подстраиваться» под ситуацию окружающей реальности за
счет собственных поведенческих реакций (рис. 39). При этом все функции
предыдущих БУС (простейшего, обоих простых и сложного соматического) в
самообучающемся БУС также присутствуют.
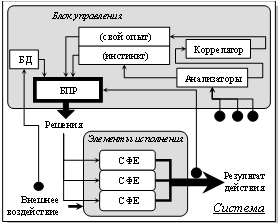
Рис. 39. Блок-схема системы с самообучающимся БУС.
Система (подсистема) обмена веществ не представлена, хотя присутствует во
всех реальных системах мира животных и человека. БД – «база данных»; БПР – блок
принятия решений; инстинкт – «база знаний и решений инстинкта»; свой опыт –
«база знаний и решений своего опыта».
Цель животных с самообучающимся БУС та же, что и у примитивных животных с
сложным соматическим БУС – адаптация к ситуации окружающей реальности. Они также
реализуют право на действие в окружающей реальности по закону: «быть
там, где пища». Но для них пищей уже являются не минеральные соли или
растения, а они сами. Они стали охотиться друг за другом. Поэтому они положили
начало конкуренции, реализуя право на действие по закону джунглей:
«выживает сильнейший». Поэтому, кроме поиска пищи нужно было
предохраняться от ситуации, в которой данная система сама могла стать пищей
кому-то.
Цель так же достигается счет ощущения и восприятия окружающей реальности, ее
оценки, принятия решения и работы опорно-двигательного аппарата животного ( те
же элементы исполнения систем с сложным соматическим БУС) для перемещения тела
животного. Отличие только в одном – самообучающийся БУС сам принимает решения,
на основе своего опыта, который на протяжении жизни животного постоянно меняется
и увеличивается, в отличие от сложного соматического БУС, который не принимает
решения сам, а вместо него это делает инстинкт, а инстинкт на протяжении жизни
животного не меняется.
Поэтому цель усложнилась и стала достигаться за счет прогноза окружающей
реальности, ее оценки, принятия решения и работы опорно-двигательного аппарата
животного (элементы исполнения системы) для перемещения тела животного и
получения тактического преимущества своей ситуации по сравнению с ситуацией
конкурирующей системы.
И также во время действий тело животного (система) и все внутренние структуры
подвергаются закону отрицательной энтропии и разрушаются и у них есть простой и
сложный (см. далее) вегетативный автоматы, реакции которых направлены на
изменения во внутренней реальности. Его цель та же – восстанавливать разрушенные
структуры системы, и он реализует то же право на точное действие внутри
системы по закону: «каждая разрушенная структура должна быть
восстановлена» и по тому же закону простого автомата – «сколько нужно,
столько будет сделано», с точностью до одного кванта действия его СФЕ.
Поэтому самообучающийся БУС имеет те же элементы, что есть и у сложного
соматического БУС, которые позволяют системе «подстраиваться» под ситуацию
окружающей реальности за счет собственных поведенческих реакций. Но в отличие от
последних, они руководствуются не только инстинктом, но и собственным опытом,
полученным ими на протяжении их собственной жизни. При этом все функции
предыдущих БУС (простейшего, обоих простых и сложного соматического) в
самообучающемся БУС также присутствуют.
Цель таких подстроек к ситуации окружающей реальности, как и у сложного
соматического БУС – не выработка целевого результата действия, а создание
условий окружающей реальности, в которых возможна выработка целевых результатов
действий. Цель достигается счет тех же поведенческих реакций системы – сложных
стереотипов действий, меняющих ситуацию в благоприятную для системы сторону за
счет движений самой системы. Для этого самообучающийся БУС выполняет почти те же
действия, состоящие из ощущения и восприятия ситуации окружающей реальности,
поиска и нахождения в памяти, но не инстинкта, а в памяти своего опыта, решения
о своих действиях, соответствующих данной ситуации, и стимуляции элементов
исполнения (опорно-двигательного аппарата) для выполнения стереотипов действий.
Для этого так же используются дистанционные рецепторы (ДР) с анализаторами, но
используется уже «база знаний и решений своего опыта», потому он и
самообучающийся. При этом все возможности соматического инстинкта так же
используются.
БПР самообучающегося БУС выполняет те же функции, что и БПР сложного
соматического БУС и использует те же ДР для тех же целей – «видеть»
окружающую ситуацию и действовать нужным для него образом еще до
появления внешнего воздействия.
Отличие самообучающегося БУС от сложного соматического (инстинкта) только в
объеме памяти и в способах ее заполнения. Инстинкт использует ограниченную в
объеме память – только то, что «загружено» в нее при рождении системы.
Естественно, что многие ситуации окружающей реальности не попали в память
инстинкта и система не может их распознавать и не знает соответствующих решений.
Необходимо, чтобы БУС сам пополнял свою «базу знаний и решений» новыми
знаниями о тех ситуациях, которые встречаются ему на его пути. И не о всех
ситуациях, а только о значимых. Это резко сокращает требования к объему памяти,
потому что ограничивается только теми ситуациями, которые встречаются данной
системе. Ей незачем хранить описания тех ситуаций, которые никогда ей не
встречаются или не значимы для нее.
Но ничего в этом Мире не происходит просто так и, для пополнения знаний,
необходимо совершить дополнительные действия. И эти действия совершает
коррелятор, который заполняет «базу знаний и решений своего опыта». Для
того, что бы вносить в свою память описание новой ситуации блок управления
должен сначала определить, значимая ли эта новая ситуация, потому
что если он будет вносить в память описание всех ситуаций, он быстро заполнит ее
информационным мусором.
Это происходит следующим образом. Если ситуация окружающей реальности впервые
встречается системе, она не распознает ее и не принимает никаких решений. Но
если ситуация значима для системы, то она каким-либо образом воздействует на
систему – разрушает ее (противодействует достижению целей) или дает ей пищу
(благоприятствует достижению целей), и у Я системы возникает определенный
комплекс ощущений. БУС системы воспринимает эти ощущения и заносит описание
параметров этой ситуации и сопутствующие ощущения в память. Так как ситуация не
знакома системе (нет в описания «в базе знаний и решений своего опыта»,
встречается впервые), то для принятия решения о своих поведенческих реакциях
коррелятор самообучающегося БУС (Я системы) обращается в память инстинкта и
сравнивает параметры актуальной ситуации с параметрами известных инстинкту
ситуаций.
Если число совпадений большое (актуальная ситуация по многим параметрам
похожа на описанную в инстинкте), значит есть корреляция между
актуальной и известной инстинкту ситуациями, значит решение для известной
ситуации может подойти и для данной актуальной ситуации. Это решение
принимается, реализуется путем стимуляции элементов исполнения системы и
одновременно заносится в память «базы знаний и решений своего опыта»,
в которою предварительно были «записаны» параметры актуальной ситуации и
сопутствующие ощущения. Теперь в памяти у системы есть описание новой ситуации
окружающей реальности, она помнит ощущения, сопутствующие этой ситуации, и есть
готовое решение для этой ситуации. В следующий раз при похожей актуальной
ситуации окружающей реальности она уже сможет найти ее описание, соответствующее
решение и ощущения уже в памяти своего опыта.
Если корреляция низкая (актуальная ситуация только по не многим параметрам
похожа на описанную в инстинкте), то не принимается никакого решения. Поэтому
животные могут не попадаться на неудачные охотничьи приманки, потому что
столкнувшись с необычным явлением (приманка не двигается, не убегает, словом,
ведет себя необычно), они не могут принять решения, потому что его нет ни в
памяти своего опыта, ни в памяти инстинкта, хотя и вкусно пахнет.
Если ситуация с низкой корреляцией начнет часто повторяться, а решения все
нет и нет, то коррелятор будет снижать «планку» оценки критериев корреляции,
начнет принимать то одно, то другое решение из памяти своего опыта или инстинкта
и, в конце концов, найдет приемлемое решение, которое и останется в памяти
своего опыта, если система (животное) к этому времени еще будет жива.
Таким образом, и в «базе знаний и решений инстинкта» (в памяти инстинкта), и
в «базе знаний и решений своего опыта» (в памяти своего опыта) содержатся
описания параметров известных ситуаций и решения, соответствующие этим
ситуациям. Но есть очень существенное отличие – в памяти своего опыта содержатся
знания о ситуациях, которые часто встречаются именно данному животному. Это
значит, что у данного животного в данных ситуациях есть готовые решения на эти
ситуации, чего в принципе не может быть у животных с заданным «железным» и
потому не меняющимся инстинктом. Выучив уроки жизни животное будет вести себя
более адаптивно, получая при этом тактические выигрыши, что играет
первостепенную роль в выживаемости.
Кроме того, в память своего опыта дополнительно заносится и описание
ощущений, которые были при переживании соответствующих ситуаций в
прошлом, а в памяти инстинкта его нет. Воспоминание комплекса ощущений,
связанных с известной в прошлом ситуации, является чувством. Следовательно, у
систем с самообучающимся БУС есть чувства – то, чего не было ни в
одном из предшествующих БУС. Что это дает животному?
Инстинкт классифицирует ситуацию по одному критерию –
знакома-не-знакома: он дает готовое решение на знакомую ситуацию и
не дает никаких решений, если ситуация не знакома. Здесь чувства не нужны: если
инстинкт распознал ситуацию, он тут же предложит решение, если не распознал –
нет решения. Все остальные действия будут излишними. Когда зарождался инстинкт,
животные охотились только за растениями и для них ситуация всегда была хорошей,
если было что поесть. Животные постоянно в движении и если в данной ситуации нет
ничего рядом поесть, не беда, двигаясь все время обязательно встретишь еду.
Поэтому у инстинкта есть только одно решение, если ситуация
знакома и указывает на пищу. Остальные движения могут быть даже хаотическими и
не целенаправленными, т.е., не требующими специального решения.
Свой опыт классифицирует ситуацию уже по двум критериям
– знакома-не-знакома и плохая-хорошая. Когда системы
стали охотиться друг за другом, инстинкта стало не хватать и появился свой опыт,
который подсказывал – эта ситуация знакомая и хорошая, потому что есть пища, а
эта ситуация тоже знакомая, но плохая, потому что ты сам можешь стать пищей.
Поэтому у своего опыта есть два противоположных решения, в
зависимости от того, плохая или хорошая ситуация. Выбор между решениями для
хорошей или плохой ситуации осуществляется на основе чувства –
воспоминании о своих ощущениях, которые причинила похожая плохая или хорошая
ситуация в прошлом. Если ситуация плохая, то у системы появляется плохое
чувство, если ситуация хорошая, появляется хорошее чувство. В зависимости от
чувств вырабатывается и соответствующая поведенческая реакция.
Чувство необходимо в тех случаях, когда нет точной и однозначной оценки
ситуации. Для инстинкта чувства не нужны, там все однозначно и понятно: есть
полное совпадение параметров ситуаций актуальной и известной инстинкту, бери
соответствующее готовое решение, нет совпадения, не предпринимай ничего. Когда
совпадения неполные, нужны градации оценки, чтобы самому принять решение, потому
что здесь могут быть два противоположных решения. Чувства и помогают
«окрашивать» ситуацию, благоприятная она для системы или нет и тем самым сразу
определять соответствующее решение.
Выше описанный механизм появления чувств у систем с самообучающимся БУС
предполагает, что у первых систем с самообучающимся БУС не было врожденных
чувств, они были все приобретенные. У вновь рожденной системы «база знаний и
решений своего опыта» совершенно пустая и заполняется только в течение жизни
системы. Поэтому в ней нет и никаких описаний ощущений. Следовательно, нет и
чувств, которые появляются в ней только с появлением своего опыта. Поэтому у
первых систем с самообучающимся БУС чувства только только зарождались и были
весьма примитивные. Но с развитием БУС у систем развивается не только свой опыт.
Если на протяжении многих поколений систем с самообучающимся БУС ситуация часто
повторяется, содержание своего опыта постепенно «перекочевывает» в память
инстинкта, куда кроме описания параметров известных ситуаций переходит и
описание соответствующих ощущений. Таким образом у систем формировались
инстинктивные чувства – память об одинаковых ощущениях многих поколений
систем, которые переживали одинаковые ситуации. Последующие поколения систем с
самообучающимся БУС все время только дополняли новые чувства и «утончали» уже
имеющиеся. Поэтому у более развитых систем с сложным соматическим БУС появились
очень сложные инстинкты, включающие в себя знания, как построить гнезда и пр.,
потому что происходило накопление знаний инстинкта. Но у таких животных могут
быть и врожденные чувства. Вероятно поэтому, при нападении шмеля на пчелиный
улей, пчелы начинают «в страхе» метаться и теряют размеренный ритм жизни улья,
т.е., у них есть чувство страха. Следовательно, у примитивных животных чувства
отсутствовали, у них был только инстинкт. Но как только появился свой опыт,
появились чувства и в своем опыте, и в инстинкте – врожденные чувства.
Откуда взялся сам коррелятор? Из анализаторов, которые впервые появились у
сложных БУС. Сложный соматический БУС (инстинкт), столкнувшись с очередной
ситуацией, должен сделать несколько логических операций в своем мозгу. У него
есть постоянная память – «база знаний и решений инстинкта», в которой постоянно
хранятся описания параметров каких-либо известных инстинкту ситуаций. Анализатор
посылает информацию в инстинкт (в «базу знаний и решений инстинкта») и тот
должен провести операции сравнения. Но для этого анализатор должен обладать
какой-либо временной памятью, чтобы держать в себе описание параметров
актуальной ситуации, пока инстинкт проводит свои логические операции. Эта
временная память очень короткая. У рыб она не превышает 5 секунд, но этого
хватает, чтобы оценить текущую актуальную ситуацию, рыбы живут этой секундой и
не думают о завтрашнем дне.
Если жизнь размеренная и спокойная, то ничто не заставит нейронные сети
помнить дольше, в этом нет необходимости. Но в условиях жесточайшей конкуренции
и борьбы за выживание ситуации так быстро меняются, что инстинкт не успевает за
обработкой информации и память этих первичных нейронных сетей должна была
увеличивать и свою емкость, и время удержания информации, чтобы дождаться в
очереди для обработки инстинктом. Инстинкт тоже не абстрактное понятие. Его
материальным носителем являются те же нейронные сети, которые при увеличении
загруженности инстинкта, вероятно, так же увеличили свою «мощность», увеличив
объем этих нейронных сетей. Но число известных ситуаций таким путем не могло
быть увеличено, потому что инстинкт – это память поколений, что стоит вне
влияния отдельной особи. Поэтому увеличение массы нейронов не могло
сопровождаться увеличением числа правильных решений, потому что число известных
ситуаций с соответствующими решениями оставалось постоянным (инстинктивная
память). Поэтому те структуры нейронных сетей, которые ответственны за
проведение логических операций, методом проб и ошибок стали проводить не только
операции сравнения про принципам полной оценки (полного совпадения
всех параметров ситуаций), но и по принципам дополнительной оценки
(частичного совпадения параметров ситуаций с дополнением недостающей для оценки
информации чувством), когда не все параметры должны совпадать, а только
большая их часть. Большая часть – это уже корреляция. Так появился
коррелятор, которым является «база знаний и решений своего опыта».
Когда уже есть долговременная память и есть элементы нейронных сетей, которые
могут по принципу неполного совпадения находить общности в описаниях ситуаций
(есть коррелятор), то появляется возможность для самообучения и увеличения числа
известных ситуаций окружающей реальности. Этот процесс взял сотни миллионов лет
эволюции и, вероятно, был самым длительным в истории зоологии, но это был прорыв
в ее застое. Время полипов и медуз кончилось, которые, по большому счету, были
просто «двигающимися растениями», руководимыми очень слабым инстинктом, или же
вообще лишенные его. Начался новый период, когда появились настоящие животные,
сами принимающие решения о своем поведении и у которых появились чувства
(внутренние переживания своих ощущений в прошлом), зародилось начальное
примитивное сознание – подсознание.
Таким образом, системы с самообучающимся БУС отличаются от
систем с сложным БУС тем, что не только знают об окружающей
ситуации, но и могут сами оценить ее, используя чувства, и у них есть
поведенческие реакции. И главное отличие в том, что они могут все время
увеличивать запас своих знаний за счет самообучения за время жизни самой
системы, и увеличивать запас знаний своего инстинкта за время жизни многих
поколений подобных систем.
Система с самообучающимся БУС имеет практически все основные
структуры, которые есть у систем с простым и сложным БУС. Она также может
ощущать реальность внешнего мира через свои РВВ и ДР, у нее есть та же
информация об окружении и есть готовое описание различных ситуаций (инстинкт),
что позволяет оценивать общую картину окружающего, и у нее есть знания и готовые
решения инстинкта, что и у системы с сложным БУС. Но у нее есть качество,
которого нет ни у одной из ранее рассмотренных систем. Она умеет не только
увеличивать запас своих знаний, у нее появляется свойство личности
(субъекта), потому что у нее появляется свой опыт, записанный в ее
память (в «базу знаний и решений») и отличный от опыта других объектов и
субъектов.
Отличительной особенностью личностной системы от остальных
заключается в отличии ее реакции в ответ те же внешние воздействия, которые
оказываются на другие системы. Если однотипные системы с простейшими, простыми и
сложными БУС всегда на одно и то же внешнее воздействие дают одну и ту же
реакцию, т.е., однотипные системы абсолютны похожи друг на друга, потому они и
объекты, то однотипные системы с самообучающимся
блоком управления уже непохожи, потому что у них разное содержимое
«баз знаний и решений своего опыта», потому они и субъекты. Уже
системы не только разных поколений, но и одного и того же поколения не похожи
друг на друга. Мир велик и разнообразен и системы, перемещаясь в нем,
сталкиваясь с разными ситуациями и имея свои «приключения», получают
разные знания. А так как любые знания, инстинктивные и из
своего опыта, влияют на принятие решения блоком принятия решений,
то на одно и то же внешнее воздействие у этих систем реакция может отличаться,
носить персональный (личный) характер и логика поведения здесь
будет различной. Если бы Буриданов осел был бы системой с простейшим или простым
блоком управления, он точно умер бы от голода между двумя стогами сена. Но
Буриданов осел – это как минимум самообучающаяся система и его логика – это
логика уже достаточно развитого животного, а не камня или растения. Даже жуку,
вероятно, логика интуиции подсказала бы верное решение. Все это говорит, что
подходить к описанию мира животных, человека и даже растений с мерками мира
минерального (физического) – это пустое занятие.
Системы с сложным соматическим БУС (с инстинктом) прогнозов ситуации
окружающей реальности не делали, он им был не нужен, потому что они двигались
среди неопасных для них растений и их будущее всегда было определено – впереди
пища. О большем они не задумывались, им предлагалось уже готовое решение на
каждую распознанную инстинктом ситуацию, ситуаций было мало и не было
необходимости в большой памяти инстинкта. В отличие от них системам с
самообучающимся БУС прогноз был необходим, потому что появилась угроза самому
быть съеденным: вокруг были не только растения, за которыми можно было
охотиться, но и другие животные, которые могли охотиться за тобой. Если у тебя
нет прогноза, ты не распознаешь грядущую ситуацию и подвергнешься смертельной
угрозе.
Поэтому системы с самообучающимся БУС умеют делать прогноз
ситуации. При их рождении их «база знаний и решений своего опыта» пустая, но они
сами заполняют ее за время их жизни. Так как нет готового решения, то
самообучающийся БУС должен сам искать это решение, а для этого он должен сначала
узнать, а есть ли вообще смысл искать какое-либо решение. Если ситуация
окружающей реальности для него не значима, тогда нет смысла искать решение. Но
чтобы знать значимость ситуации, надо знать ее прогноз. Поэтому такие системы
учатся делать прогноз ситуации окружающей реальности на основе собственного
опыта.
Поэтому у них больше знаний: к инстинкту добавляются
собственные знания, свой опыт. Этот опыт может научить, что
внешний мир – это не только пища, но и опасности. Это значительно увеличивает
число градаций собственного отношения к окружающей реальности, потому что
системы помнили свои ощущения в этих ситуациях – них появились чувства как
средство оценки ситуации. Плохие (отрицательные) чувства, если ситуация
неблагоприятная, хорошие (положительные) чувства, если ситуация благоприятная,
т.е., ее прогноз обещает достижение цели.
Вероятно, у подобных систем, кроме зародышевого чувства радости
(удовлетворения от достижения цели) должно быть также и чувство страха, ведь
опыт мог «набить им шишки» с тем, чтобы они предохранялись от опасных ситуаций.
А опасаться можно только если есть чувство страха. Другими словами, зная свое
место в Мире эти системы все время оценивают ситуацию и определяют свое
дальнейшее поведение: догонять жертву или спасаться от хищника. Страх увеличил
шансы на жизнь.
Есть еще одно важное качество, которое появляется у систем с самообучающимся
блоком управления – более сложная реакция на ситуацию. Система с сложным БУС
реагирует на ситуацию инстинктивно сразу же после ее оценки: «бьют
– беги, дают – бери». Но есть ситуации, когда, несмотря на опасность или на
наличие целевого объекта, нужно не двигаться (притаиться) и наоборот, нет
опасности или пищи, двигаться (искать «приключения»), если ситуация «пустая».
Системы с самообучающимся блоком управления могут реагировать не сразу, а раньше
или позже, в зависимости от ситуации. Такая реакция этих систем не плод их
раздумий, а результат их опыта, который дает им соответствующие
стереотипы поведения.
Можно поражаться сложному поведению, например, постельного клопа, когда тот
совершает очень длительное путешествие от места своего укрытия где-нибудь в
прищепке для занавески у окна, через падение на пол с последующим
вскарабкиванием по стенке до потолка и путешествием по потолку, вплоть до места
прямо над лежащим человеком, с последующим падением на него, кровососанием и
последующим возвращением к месту своего укрытия. Это же нужно заранее знать, что
только таким путем можно добраться до вожделенной пищи, а у него даже глаз
толком нет, чтобы увидеть и наметить маршрут. При этом еще нужно совершить ряд
действий для продолжения рода (нахождение полового партнера, спаривание, кладка
яиц) и т.д. И все эти знания умещаются в нескольких десятках или сотнях нервных
клеток постельного клопа? Но клоп ничего этого не знает. У него есть «железный»
и практически беспроигрышный алгоритм его действий, который сначала говорит ему:
«заберись наверх и смотри вниз». Клоп видит в инфракрасном свете и глядя вниз он
видит теплокровное животное. Тогда инстинкт ему говорит: «прыгай на тепло».
Спрыгнув на жертву клоп сделает все, что скажет ему инстинкт и опять
инстинктивно уползет в сторону и наверх. А затем цикл повторяется. Объем знаний
не такой уж большой и во многом рассчитан на случайность.
Здесь нет еще мышления с глубоко продуманными ходами, потому что еще нет
абстрактного символьного и тем более знакового (речевого) мышления. Но здесь уже
есть образное ассоциативное мышление. Свой опыт – это опыт уже
пережитого, поэтому в памяти уже есть образы пережитого. Зная эти образы
ситуации и их прогнозы, воспринимая образ реальной ситуации и сравнивая ее с
знакомыми образами, Я системы по ассоциации с прежде пережитым может дать
прогноз ситуации и выработать свое отношение к ней, исходя из своих целей.
Чувство, возникшее при этой оценке подскажет ему, какой образ
ситуации нужно извлечь из памяти (из «базы знаний и решений своего опыта» или из
инстинкта) и использовать этот образ в качестве своего решения данной текущей
жизненной проблемы.
Кроме этого, у них есть образы их комплексов движений – стереотипов
движений. Если бы мозги были обычным компьютером и могли бы «вычислять» наши
действия, нужды в долгих тренировках не было бы. Инстинктом можно было бы
унаследовать формулы движений, а все остальное уже было бы делом техники
– вычислительной работы мозгов. Но это, вероятно, был бы тупиковый путь
эволюции. Для вычисления по формулам каких-либо движений требуется очень много
логических операций, что неразвитая нервная система первых животных сделать не
могла, не хватало вычислительных «мощностей». Такие вычисления требуют слишком
много времени, которого в условиях жесточайшей конкуренции не было. Такие
системы были бы быстро уничтожены еще то того, как они научились бы принимать
верные решения и жизнь на Земле быстро закончилась бы.
Природа пошла другим путем, не вычислительным, применив образное
ассоциативное мышление. БУС запоминает в памяти своего опыта образ
ситуации – определенную комбинацию параметров, и тот комплекс ощущений, который
сопровождал эту ситуацию. Для этого надо было запоминать не отдельные параметры
ситуации, а именно их комбинацию в их взаимосвязи – образ ситуации.
Находя корреляции между образами актуальной ситуации и из памяти своего опыта
или инстинкта коррелятор учитывает именно эти взаимосвязи. И такое воспоминание
пробуждает в БУС определенные чувства, которые подсказывают ему, ситуация
хорошая или плохая для него и помогают значительно сократить время на
размышления при принятии решения («бьют – беги, дают – бери»). Это уже не
трафаретное мышление, а ассоциативное по принципу («чем-то
похожее на другую ситуацию, значит бери то же решение, как при той другой
ситуации»). Уже не все параметры должны совпадать, а только часть, но часть
значимая. Вероятно здесь уже должны использоваться весовые коэффициенты –
значимость каждого отдельного параметра ситуации для данного животного. Другими
словами, по мере развития самообучающегося БУС его коррелятор выполняет больше
специфических действий корреляции.
Это только в кино роботы, глядя на цель, вычисляют по формулам,
как компьютер, свои действия и точным вычисленным и рассчитанным движением
достигают своих целей.
Или, например, палеонтологи, используя фактический материал измерений
размеров костей динозавров, математические модели локомоции конечностей и
современную компьютерную технику могут вычислять движения конечностей динозавров
и заставить ходить их трехмерные математические модели. Но сами динозавры
понятия не имели о математических моделях и ходили только потому, что у них были
наработанные стереотипы их движений в соответствующих ситуациях.
Такие системы в живом мире нам неизвестны. Цыпленок вылупившись из яйца сразу
может бегать только потому, что в его «базе знаний и решений» уже все готово, он
все делает инстинктивно. У него в мозгу есть полный набор стереотипов
движений – готовых решений (движений), заданных ему инстинктом и нет никаких
компьютерных вычислений. Ребенок же, родившись, не может не только ходить, но и
попасть пальцем в рот. Ему потребуется очень много месяцев, пока он методом проб
и ошибок, точно так, как это было описано выше, создаст свои стереотипы
движений, наработает готовые решения и научится совершать необходимые движения.
Не зря гимнасты столь усиленно тренируются, чтобы добиться необходимого
мастерства. Они с помощью корреляторов нарабатывают свои стереотипы
движений и заполняют ими свои «базы знаний и решений». И никаких вычислений.
Свой опыт повышает свободу действий системы. Свобода заключается в том, что
не инстинкт за нее находит решения, предлагая их системе в готовом виде, а
система сама находит свои решения. Если инстинкт подсказывает свое решение, то
вся ответственность за содеянное лежит на нем (на инстинкте) и система не
виновата, если результат оказался неудачным. Окружение оказалось сильнее
инстинкта, у которого не нашлось правильного решения, а система не принимала
никаких решений. Но если система выбрала сама, на основе своего опыта,
то ответственность за принятое решение частично лежит уже на самой системе. Если
решение было неудачным, то система сама «виновата» в неудаче и ей достается
горечь поражения (кнут). Если удачным – радость победы (пряник). И все это с
соответствующими ощущениями, которые при воспоминании о них проявляются уже в
виде чувств.
Кроме того, свой опыт обогащает инстинкт. Многократно повторяющиеся значимые
ситуации окружающей реальности и памяти своего опыта постепенно переходят в
долговременную память инстинкта и появляются животные с очень сложным инстинктом
и врожденными чувствами. Что иное если не свой опыт мог бы научить инстинкт
плести очень сложные паучьи сети, паучьи подводные домики или строить термитные
города?
Системы с самообучающимся БУС среди позвоночных – это уже достаточно развитые
животные, но живущие в одиночку (змеи, ящерицы и пр.). Даже их дети, только
только вылупившись из яиц, сразу же становятся самостоятельными. Черепаха
откладывает кучу яиц и из нее вылупляется куча черепашат, которые сразу же после
этого разбегаются в разные стороны, так и не познакомившись со своими
родителями. Это говорит о еще очень большом значении инстинкта в их поведении и
значение их собственного опыта заключается только в обогащении инстинкта.
Но развитие систем с самообучающимся БУС предопределило дальнейшее развитие
систем вплоть до человека именно благодаря возможности самообучения, потому что
появляются условия для саморазвития систем. Если системам с сложным БУС просто
«показывали» жизнь и у них не было никакой свободы выбора своих действий, то
системы с самообучающимся БУС уже сами ориентируются в жизни, учатся сами
принимать участие в собственной эволюции, набирая свой опыт, потому что у них
появляется свобода выбора своего поведения.
Конечно же это не полное и ясное осознание своей личности и своего места и
значения в Мире. Им еще не дано право самим определять свои цели и направление
своей эволюции. Все это еще остается принудительным и навязанным извне. Но им
уже дано право самим находить верное решение. Им дана свобода выбора своих
действий для достижения навязанных им извне целей систем, используя свой
опыт, хотя их решение заведомо известно. Системы, как «слепые котята»,
«тыкаются» в Мир в поисках верного решения, а эволюция, используя «кнут и
пряник», учит их «уму-разуму». И системы учатся на своих ошибках, действуя для
достижения своих целей и постигая свои истины в одиночку. Рамки действий – это
набор тех действий, которые система может выбрать и выполнить в этих условиях, и
эти рамки задают законы природы. Одни из действий удачные, другие нет. Конечный
результат будет зависеть от удачности выбранных действий. Самообучающиеся БУС
могут научиться выбирать наиболее удачные действия, потому что они сами
заполняют свой опыт, а сложные соматические БУС не могут, потому что их действия
заданы жесткими рамками инстинкта и они не могут пополнять свой инстинкт.
Состав самообучающегося БУС (состав элементов управления систем):
тот же сложный соматический БУС,
коррелятор и
«база знаний и решений своего опыта».
Алгоритм самообучающегося БУС (рис. 40).
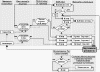
Рис. 40. Алгоритм работы самообучающегося блока управления
у систем мира животных.
БД – «база данных»; РД=должный – результат действия равен должному
(заданному) и описанному в «базе данных»; ВР должная – внутренняя реальность
должная; восстановление ВР – восстановление внутренней реальности: инст.
стереотип – инстинктивный стереотип действий; Вероятн. стереотип 1 и 2 – своего
опыта стереотипы действий на положительное и на отрицательное чувство.
Алгоритм работы самообучающегося БУС отличается от алгоритма сложного
соматического БУС. Он так же воспринимает окружающую реальность своими
анализаторами, но информация с анализаторов идет не только в «базу знаний и
решений инстинкта», но и в «базу знаний и решений своего опыта». Необходимость в
появлении «базы знаний и решений своего опыта» диктуется не только
необходимостью увеличения числа известных ситуаций с известным решением, но и
увеличением числа подробностей ситуации окружающей реальности.
Даже если тщательно отбирать ситуации для заполнения их параметрами «базу
знаний и решений своего опыта», все равно большое число частностей быстро забьет
конечный объем памяти ненужными подробностями. Поэтому память заполняется не
всеми подробностями, а только теми, в отношении которых самообучающийся БУС
решил, что они значимые. Однако ситуации никогда не повторяются полностью, а
только частично, тогда совпадение очередной актуальной ситуации с описанной в
«базе знаний и решений своего опыта» будет неполным. Если бы такое случилось с
памятью инстинкта, то инстинкт отбросил бы эту ситуацию, как не значимую. Но
самообучающийся БУС не может ее отбросить только на том основании, что какая-то
часть параметров известной ему ситуации не совпадает с актуальной ситуацией.
Актуальная ситуация может оказаться очень даже значимой и данная система может
пострадать. Именно коррелятор по неполному совпадению выявляет корреляцию между
параметрами актуальной и наиболее подходящей из памяти своего опыта ситуациями.
Если корреляция низкая, значит она незначимая и ее можно игнорировать. Если
корреляция высокая, то, в зависимости от того, если ситуация благоприятная
(значит есть решение), у него появляется положительное чувство, если
неблагоприятная – отрицательное чувство (значит нет решения). На каждое чувство
есть свои стереотипы действий (бьют – беги, дают – бери). Но эти стереотипы
вероятностные, они не дают полной гарантии успеха, потому что основаны на
корреляции, которая допускает не точный прогноз, а только вероятный.
Эволюционная роль самообучающегося БУС.
Роль самообучающегося БУС в эволюции сознания в том, что впервые появилось
Я, которое начало познавать Мир, приобретая свой опыт.
Роль систем с самообучающимся БУС (животных) в эволюции Вселенной в том,
что они начали гонку эволюции среди животных – открыли закон джунглей:
выживает сильнейший.
Ранее рассмотренный сложный соматический БУС не принимал самостоятельных
решений о выполнении своих стереотипов действий, потому что эти решения ему
предлагались инстинктом в готовом виде. Самообучающийся БУС уже сам выбирает
свои поведенческие реакции на основании своего опыта. Это стало возможным
благодаря наличию коррелятора. Он сам оценивает ситуацию, сравнивая ее параметры
с тем, то есть у него в памяти и для оценки использует чувства.
Для этого нужно делать еще больше действий управления:
выполнять все действия сложного соматического БУС,
проводить коррекцию параметров воспринимаемой актуальной ситуации
окружающей реальности с параметрами наиболее похожей известной ситуации,
которая находится в (в «базе знаний и решений своего опыта»),
на основе этой корреляции выявлять прогноз актуальной ситуации,
на основе прогноза принимать решение о своих действиях,
реализовывать это решение за счет поведенческих реакций.
Свой опыт дал возможность системам широкие возможности выбора своего
поведения в окружении других таких же систем. Охота друг на друга заставила их
находить новые и новые тактические решения для своего поведения. Теперь, чтобы
выжить, нужно было быть сильнее, чем другие. Природа опробовала много вариантов
усиления систем. Сюда относятся и увеличение размеров тела (гонка размеров в
эпоху динозавров), и различные шипы, рога, химическое оружие (яды), вооруженные
хвосты, быстрые ноги, уход под землю, вторичный уход в воду и т.д. Животные уже
прекрасно справлялись с нейтрализацией многих законов природы. Они научились
летать в воздухе, плавать под водой, задерживая дыхание, не замерзать при
температуре ниже нуля и это повысило их шансы выживать. И все это составляет
понятие «быть сильным». Все это благодаря возможностям их самообучающегося
соматического БУС и вегетативного БУС.
Функциональные возможности самообучающегося БУС.
Адаптация систем с самообучающимся БУС к ситуациям окружающей реальности
лучше, чем у систем с сложным БУС, потому что у них больше известных им ситуаций
с их прогнозами и решениями. И сами ситуации, известные своему опыту, описаны
более подробно и с большим число деталей. Это позволяет им использовать больше
поведенческих реакций, значительно обогащая их стратегию и тактику выживания.
Возможности сознания самообучающегося БУС.
Основным инструментом управляющих функций сложного БУС являются
рефлексы на новую ситуацию. Они основаны на использовании коррелятора
для выявления корреляции между актуальной ситуацией и описанной в «базе знаний и
решений своего опыта или инстинкта», в которой находится прогноз данной ситуации
и описания примитивных чувств для выбора решения. На основе прогноза
самообучающийся БУС сам вырабатывает решение о поведенческих реакциях животного,
соответствующее актуальной ситуации, потому что готового решения нет. Кроме
предсознания, как у растений, есть и подсознание,
потому что есть чувства.
Осознание своего Я. У животных с самообучающимся БУС (со своим опытом),
также как и у животных с сложным БУС (с инстинктом), есть два Я – соматическое и
вегетативное. Вегетативное Я ничем не отличается от такового у животных с
инстинктом (с сложным БУС) и имеет предсознание, а соматическое Я
отличается наличием подсознания.
Это Я уже принимает участие в своей судьбе. Системы с сложным
БУС выбирают свои действия не сами, их выбор – это выбор инстинкта. А системы с
самообучающимся БУС выбирают свои действия уже сами и их выбор
зависит от ситуации окружающей реальности. Для этого они должны были осознавать
ее. У них уже есть свой опыт и свой выбор, а это уже начало процесса познания,
который учит их «держать себя в руках» и реагировать только исходя из своего
опыта, тогда, когда это наиболее выгодно. Это начало пути, в конце которого
системы сами должны взять свою эволюцию в свои руки. Но это все еще очень
«темное» Я, хотя у него уже есть свобода выбора своих действий,
основанная на его личном опыте. Еще раз подчеркнем – свобода
выбора своих действий для достижения своих целей, но не свобода
выбора своих целей!
Персонализация системы обусловлена только персонализацией ее опыта и это
определяется наличием подсознания. Самообучающийся БУС, получая информацию из
окружающей реальности, оценивает ее, сравнивая ее параметры и определяя,
насколько данная ситуация ему знакома, чем она ему угрожает и какое решение
принять. А оценка – это есть операция сознания. Но это еще примитивная оценка,
основанная на образном ассоциативном мышлении. Поэтому это не
сознание, а подсознание.
Тем не менее, свобода выбора действий также предопределена, как и у любой
другой системы. Не она выбирала свои «жизенные приключения» и, следовательно,
свой опыт. Это опыт следовал из самой логики жизни, из законов, действующих в
окружении. А законы природы – это рамки, внутри которых происходят действия
абсолютно всех систем, нет беззаконных действий и нет случайностей в природе,
потому что есть единая иерархия законов нашей Вселенной, направляющая всю ее
эволюцию. Это и есть тот самый детерминизм Лапласа, указывающий на всеобщую
предопределенность, которая обусловлена законом причинно-следственных
ограничений. Следовательно, свобода выбора для систем с самообучающимся блоком
управления – это все же не совсем свобода, поскольку выбор действий
предопределен, и есть свобода всего лишь «выбора рамок» действий. Ну и что, если
из двух однотипных систем эта система имела свои приключения, а та – другие, и
сейчас у них разные реакции на одни и те же внешние воздействия. Если их
поставить в одни и те же условия обучения (одни и те же приключения), у них
будет совершенно одинаковый свой опыт и, соответственно, совершенно одинаковые
реакции на одни и те же внешние воздействия. Следовательно, зная все привходящие
условия можно предвидеть поведение системы.
А если у них опыт разный, то хотя их ответные действия на одно и то же
внешнее воздействие будет разным, но их цель будет все же одна и та же. Зачем же
тогда нужно различие в действиях? Это различие повышает эффективность действий
систем. Если у одной системы своего опыта больше, у нее будет более правильное и
эффективное решение, а это значительное и даже решающее преимущество в
конкурентной борьбе за выживание. Самообучающиеся БУС заложили и определили
основной закон мира животных – закон джунглей: «выживает сильнейший». А
сильнейшим оказывается не тот, у кого мышц больше или зубы длиннее, а тот, кто
умнее. А умнее тот, у которого своего опыта больше. Поэтому основателями мира
животных по праву следует считать не системы с сложным соматическим БУС, которые
являются переходной формой от мира растений к миру животных, а системы с
самообучающимися БУС.
Системы с самообучающимся БУС также являются субъектами, потому
что их решения разнотипные, персональные (личностные), потому что взяты из
памяти своего опыта, который для всех однотипных систем разный. Системы в ответ
на одно и то же внешнее воздействие дают разную
реакцию, сделают разные действия, хотя производят один и тот же
результат действия. Их Я не похожи, они «хотят» разное. Поэтому
они субъекты.
Осознание внутренней реальности. У самообучающегося БУС, как и у сложного
соматического БУС нет осознания своей внутренней реальности.
Осознание окружающей реальности. У самообучающегося БУС есть восприятие и
оценка окружающей реальности и он принимает решения о своих действиях в
зависимости от прогноза ситуации, который определяет сам с помощью своего
коррелятора. У него есть подсознание.
Это еще не сознание, потому что он не понимает частностей окружающей
реальности. Он просто воспринимает их в виде образов и сравнивает эти образы с
имеющимися у него в памяти, не делая над ними никаких других сложных логических
операций (не думая). Поэтому это не сознание, а подсознание, потому что он все
же проводит оценку окружающей реальности.
Часть его действий по прежнему автоматические (инстинктивные), но часть уже
не автоматические, а осознанные, потому что основаны на его собственных знаниях
из своего опыта. Он осознает ситуацию окружающей реальности, потому что делает
ее оценку путем сравнения. Он уже делает определенные мыслительные действия
(определение корреляции, сравнение, оценка и пр.). Он уже делает не подбор
одинаковых параметров актуальной ситуации и ситуации из памяти по принципу
полной оценки, а находит в памяти наиболее похожие ситуации и
проводит корреляцию между ними и актуальной ситуацией по принципам
дополнительной оценки. Такой поиск мы называем «образным
ассоциативным мышлением», но здесь еще нет никакого мышления, потому что
мышление – это «виртуальные игры» с окружающей реальностью в мозгу.
Образное потому, что система, находясь в условиях окружающей реальности,
может запомнить тот или иной образ этой реальности и свои ощущения в ней.
Ассоциативное потому, что подбираются ассоциации, похожие по некоторым
отдельным признакам ситуации. Увидев похожий образ и проведя корреляцию между
ним и известным ей из памяти БУС может вспомнить свои ощущения, которые у него
были в той ситуации. Так возникают чувства.
Наличие чувств и эмоций. У него есть чувства, потому что у него есть
подсознание, но нет эмоций, потому что нет необходимости показывать свои чувства
другим системам.
Недостатки самообучающегося БУС.
Основной недостаток самообучающегося БУС тот же, что и у сложного
соматического БУС – ограниченность «базы знаний и решений своего», хотя он
выражен в меньшей степени, потому что память увеличилась.
3. Первая сигнальная система (социальная личность мира животных).
БУС с 1-й сигнальной системой имеют те системы, которые могут
взаимодействовать друг с другом, чтобы противостоять закону джунглей, где
выживает сильнейший. Этот закон по прежнему еще для них играет для них главную
роль в их жизни, но взаимодействие друг с другом помогает противостоять ему,
повышая шансы на жизнь.
Цель этих животных та же, что и у животных с самообучающимся соматическим БУС
– адаптация к ситуации окружающей реальности. Они также реализуют право на
действие в окружающей реальности по закону: «быть там, где пища»
и так же охотятся друг за другом и действуют в рамках закона джунглей: «выживает
сильнейший». Но один в поле не воин и жизнь в одиночку полна опасностей. В
коллективе и ушей и глаз побольше, и общая масса может защитить и нужно
объединяться. Поэтому цель БУС с 1-й сигнальной системой еще сложнее, чем у
самообучающегося, потому что эти системы должны противостоять закону джунглей,
где выживает сильнейший, противопоставив этому закону другой закон – «сила во
взаимодействии».
Цель достигается за счет объединения усилий систем против разрушающего
действия окружающей реальности, в состав которой входят и другие животные,
используя для этого партнерские взаимодействия систем.
Однако, чтобы объединиться, нужно уметь понимать друг друга, нужно правильно
понимать те сигналы, которые тебе подает твой партнер по стаду, чтобы
действовать согласованно. Если Я вижу пищу, я должен ее съесть, тут все ясно и
понятно. Но если Я вижу поднятый хвост, то «что бы это значило?». Чтобы понять,
что поднятый и распушенный хвост означает опасность, должна быть логическая
связь между этими событиями и система должна понимать эту связь. Но это связь
опосредствованная, абстрактная. Если я вижу опасность, Я знаю, что
это опасно для меня. Но если Я вижу поднятый и распушенный хвост, Я должен
«абстрагироваться от него и видеть в нем не хвост, а свою опасность, хотя сам по
себе распушенный хвост для меня опасности не представляет. А для того, чтобы
абстрагироваться Я в своем блоке управления должен иметь соответствующий
абстрактор, в котором есть «база абстракций или символов» и в которой
описано, что поднятый и распушенный хвост соседа – это опасность.
И по прежнему во время действий тело животного (система) и все внутренние
структуры подвергаются тому же закону отрицательной энтропии и так же
разрушаются. Поэтому и у них есть простой и сложный (см. далее) вегетативный
автоматы, реакции которых направлены на изменения во внутренней реальности. Его
цель та же – восстанавливать разрушенные структуры системы, и он так же
реализует то же право на точное действие внутри системы по закону:
«каждая разрушенная структура должна быть восстановлена» и по тому же
закону простого автомата – «сколько нужно, столько будет сделано», с
точностью до одного кванта действия его СФЕ.
Состав БУС с 1-й сигнальной системой (состав элементов
управления систем):
тот же самообучающийся БУС с вегетативным БУС,
символьные абстракторы и
«база знаний и решений 1-й сигнальной системы».
БУС с 1-й сигнальной системой включает в себя абстрактор, «базу
символов» и свою «базу знаний и решений, опыт других субъектов», которую
заполняет за счет опыта других (рис. 41).
Носителями сигналов для первой сигнальной системы являются все частности,
связанные с самими системами: позы, голос,
выделения, движения тела. «Чем владею, тем и пользуюсь для
символьной передачи информации». Все эти сигналы символизируют
какие-то явления реальности, поэтому первая сигнальная система называется
символьной. Любой символьный сигнал несет информацию только для других
систем, потому что сама система эту информацию и так знает и ей для этого не
нужен никакой символ. Объединение систем в стада дает значительное преимущество,
улучшая защищенность от внешней среды. Но это объединение будет иметь смысл
только в том случае, если системы смогут общаться друг с другом, понимая сигналы
партнеров.
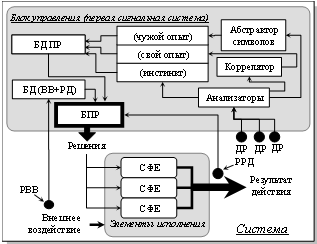
Рис. 41. Функциональная схема системы с первой сигнальной
системой.
Алгоритм БУС с 1-й сигнальной системой (рис. 42).
Алгоритм БУС с 1-й сигнальной системой основан на алгоритме самообучающегося
БУС, но он более сложный и увеличивает шансы животного на выживание. Прежде
всего это обусловлено более эффективными «базами знаний и решений 1-й сигнальной
системы».
Если животные с инстинктивным и самообучающимся БУС должны были сравнивать
параметры окружающей реальности с параметрами описанных в памяти, получать
полное совпадение (инстинктивный БУС) или корреляцию (самообучающийся БУС) и для
этого мозг должен был обрабатывать каждую частность окружающей ситуации, то
животные с 1-й сигнальной системой делали это намного быстрее благодаря двум
причинам:
использование «базы абстракций символов» и замена описания ситуации
символом требует намного меньше мозговых ресурсов, потому что описание
символа требует намного меньше ресурсов, чем описание ситуации,
освобождая этим мозговые ресурсы для большего числа логических операций,
проведение логических операций с короткими описаниями символов проходит
намного быстрее, чем проведение логических операций с массивными описаниями
ситуаций.
В результате животные с 1-й сигнальной системой быстрее соображали и лучше
(осознаннее) воспринимали ситуацию окружающей реальности, т.е., лучше ее
понимали, чем все предыдущие животные инстинктивного и самообучающегося типа.
Причем, у них не было необходимости помнить полные описаниях всех встретившихся
им ситуаций. У них были описания символов, абстрактно связанных с какими-то
частностями ситуаций (понятно-не-понятно, опасно-не-опасно, есть еда-нет еды, и
т.д.). Проводя операции мышления (неглубокого) они могли строить виртуальные
ситуации в мозгу, используя для этого как кубики имеющиеся у них символы.
Поэтому их действия уже были не автоматическими, а осознанными (сознательный
стереотип). И, как результат, они осознавали окружающую реальность, у них
появилось сознание. Вместе с этим у них появились и высшие чувства, направленные
на других членов их сообществ и, вместе с тем, у них появились эмоции как
средство для выражения своих чувств друним системам.

Рис. 42. Алгоритм работы блока управления с первой
сигнальной системой.
Эволюционная роль БУС с 1-й сигнальной системой.
- Роль БУС с первой сигнальной системой в эволюции сознания в том, что
впервые появилось Я, у которого появилось абстрактное мышление.
- Роль систем, у которых БУС с первой сигнальной системой (высших животных)
в эволюции Вселенной в том, что в ней появились объекты, которые
взаимодействовать в окружающей реальности для предупреждения ее разрушающего
воздействия.
Системы с первой сигнальной системой – это прежде всего общественные
(социальные, стадные, прайдовые и т.д.) животные, потому что сигналы нужны
только для передачи информации партнерам по обществу. «Базы абстракций» и «базы
знаний и решений», которые связаны с абстрактными знаниями, системы заполнят
сами. При рождении эти базы пустые.
У систем с первой сигнальной системой есть качество, отличающее их от всех
ранее рассмотренных систем: они могут увеличивать свои знания не только за счет
собственного опыта, но и за счет опыта других. Самообучающаяся
система имеет только свой опыт и объем знаний зависит только от ее опыта. Чем
больше опыт, тем больше знаний. Но нельзя объять необъятное и опыт всегда
ограничен.
У партнеров по стаду у каждого в отдельности опыт также ограничен, но в
каждом случае он другой. И если есть способность общаться, то опытом можно
делиться. Таким образом у систем с первой сигнальной системой
начался процесс интенсификации получения знаний. Конечно это невозможно сравнить
с знаниями человека, но все равно это настоящие знания.
И так как у нее появляется не только свой опыт, но и опыт
других, который еще больше разнообразит ее знания, личностные
особенности увеличиваются, усиливается осознание своей личности и ее Я
становится более выраженным. Такое Я уже выделяет не только свое Я
и реальность, но и и другие Я. Другими словами,
система с первой сигнальной системой является субъектом, который знает,
что существует не только он(а) и реальность, но и другие
субъекты. Следовательно, такая система знает не только свое место в
Мире, но и свое место в обществе себе подобных, появляются социальные отношения.
Функциональные возможности БУС с 1-й сигнальной системой.
Системы, у которых БУС с 1-й сигнальной системой, более устойчивы к ситуациям
окружающей реальности, чем систем с самообучающимся БУС, потому что они
взаимодействуют друг с другими их суммарные коллективные знания больше, чем у
каждой персоны в отдельности. Поэтому у них больше известных им ситуаций с их
прогнозами и решениями. Поэтому и их поведенческие реакции гораздо сложнее и
богаче, как и их стратегия и тактика выживания. Системы с первой сигнальной
системой могут сделать прогноз и у них есть настоящее абстрактное
мышление, хотя и неглубокое. Абстрактор позволяет
абстрагироваться от реальной ситуации и дает возможность виртуальным «играм» в
мозгу – образным и абстрактным представлениям в мозгу виртуальных ситуаций с
подстановкой в эти ситуации виртуальных решений и получением виртуальных
результатов действий. Такие «игры» позволяют выбирать наилучшие решения и
реализовывать их, получая выигрыш в конкурентной борьбе. Если самообучающийся
БУС принимает то решение, которое «первым пришло в голову», т.е., необдуманные
решения, то БУС с 1-й сигнальной системой принимает уже обдуманные решения. Но
процесс мышления не распространяется более чем на один-два «хода вперед»,
поэтому такое мышление является не глубоким.
Поэтому системы, у которых БУС с 1-й сигнальной системой, способны только на
подсознательные стереотипы действий. Они «хороши» только для тактических
действий, но из них «никудышные» стратеги. Они не способны предвидеть дальние
эффекты своих действий, потому что неспособны продумывать свои «ходы» на много
действий вперед, они все живут только данным моментом. Лев или волк могут
стащить козу или барана из хозяйства крестьянина, не задумываясь о последствиях,
которые приведут к тому, что человек, чтобы больше не испытывать ущерб,
вооружившись, убьет их.
Возможности сознания БУС с 1-й сигнальной системой.
Основным инструментом управляющих функций БУС с 1-й сигнальной системой
являются условные рефлексы (рефлексы на символ) и неглубокое
мышление. Условные рефлексы основаны на использовании абстрактора для
установления абстрактной связи между ситуацией окружающей реальности и
каким-либо легко доступным символом, описанным в «базе абстракций символов», а
решения принимаются из «базы знаний и решений 1-й сигнальной системы», в которой
находится прогноз данной ситуации и описания чувств для выбора решения. На
основе прогноза БУС с 1-й сигнальной системой вырабатывает такое решение о
поведенческих реакциях животного, которое позволяет ему взаимодействовать с
другими животными в стаде. Кроме предсознания, как у этих
животных, есть и сознание, потому что у них уже есть
абстрактное символьное мышление, потому что символы уже есть в доступной
им памяти. Голодная собака может подумать и принести хозяину пустую миску,
напоминая ему о кормежке. Такие системы могут понимать голосовые (не речевые!) и
прочие символьные команды, и им также должны сниться детальные сны, потому что
им доступно образное символьное мышление, в отличие от образного
ассоциативного мышления, которое не может дать детальных снов,
потому что самообучающийся БУС имеет ограниченную память, потому и не может
обладать символьным мышлением, он не помнит мелких деталей, которые могли бы
быть символами для него.
Степень свободы любых систем зависит от объема их знаний. У систем с первой
сигнальной системой он наибольший из всех рассмотренных ранее, потому что они
используют не только свой опыт, но и опыт других. У них есть только один
существенный недостаток – их опыт исчезает вместе с исчезновением самой системы
(со смертью животного). И все, что было накоплено в течение жизни, пропадает.
Осознание своего Я. Это уже достаточно «просветленное» Я, которое может
заявить свои права на окружающую реальность (територию) и на других субъектов
(самок или место в гареме). У этих систем и чувств побольше. Им уже знакомы
чувства любви и ненависти, потому что любить или ненавидеть можно только
субъект. Предмет (объект) можно желать или не желать, и при этом утверждать, что
я его люблю или ненавижу (ненавижу соленые бананы). Но это только речевая уловка
и ничего больше. Банан нельзя ненавидеть, потому что он нам не конкурент в
обществе. Во всяком случае у систем с первой сигнальной системы подобные чувства
не могут возникнуть к не субъектам. Но они могут возникнуть к субъектам из
других сообществ, например, собака любит человека (лошадь и т.д.).
У этих систем есть уже не только чувства, но и эмоции.
Эмоции являются внешними проявлениями тех чувств, которые испытывает Я системы
и, следовательно, своеобразными символами. Поэтому смысл проявлять эмоции есть
только в тех случаях, когда кто-то вовне может их понять, иначе будешь только
зря «разоряться», если будешь выражать их, например, самообучающемуся БУС,
который по своему восприятию символов подобен камню. Никто еще не видел
проявлений чувства страха или радости, например, у змеи или лягушки, хотя у
лягушки явно есть чувство страха, потому что она принимает причудливые позы при
виде змеи.
При взаимодействии в социальных сообществах, наоборот, есть смысл
демонстрировать свои чувства в виде эмоций, потому что только так можно
продемонстрировать свои намерения. Если мне не нравятся твои действия и я могу
оспорить с тобой свои права на что-то, то я демонстрирую тебе свою ярость, вдруг
ты испугаешься и отступишь.
Осознание внутренней реальности. Осознания внутренней реальности у БУС с
1-й сигнальной системой нет. Но есть предсознание у его партнера, сложного
вегетативного БУС, который управляет его телом.
Осознание окружающей реальности. У БУС с 1-й сигнальной системой есть
восприятие и оценка окружающей реальности и он принимает решения о своих
действиях в зависимости от прогноза ситуации, который определяет сам с помощью
своего мышления, используя для этого абстракторы. У него есть сознание
– оценка ситуации окружающей реальности и принятие соответствующего ей решения о
своих действиях.
Это уже полноценное сознание, потому что он понимает ситуацию окружающей
реальности, воспринимает ее в виде образов и проводит виртуальные «игры» в
мозгу, прокручивая различные варианты и выбирая наилучшее решение (обдумывая
ситуацию). Но так как он совершает в мозгу виртуальные действия с образами
ситуаций окружающей реальности, это требует больших мозговых ресурсов и много
времени для этих операций. Поэтому у него есть только неглубокое
абстрактное символьное мышление.
У него по прежнему сохраняются все виды предыдущих реакций, включая
автоматические (инстинктивные), но часть уже не автоматические, а осознанные,
потому что основаны на его собственных знаниях из своего опыта и опыта партнеров
по стаду. Он осознает ситуацию окружающей реальности, потому что делает ее
оценку путем неглубокого мышления. Это уже настоящее абстрактное символьное
мышление. Абстрактное и символьное потому, что в мозгу он оперирует абстрактными
символами, а мышление потому, что все эти логические операции в мозгу являются
виртуальными.
Объем знаний у БУС с 1-й сигнальной системой намного больше, чем у
самообучающегося БУС, потому что к объемам знаний инстинкта и своего опыта
добавляются коллективные знания – знания соседей по стаду. У таких систем
свобода выбора своих действий намного больше, чем у любых других систем более
низкого уровня, хотя это по прежнему всего лишь свобода выбора своих
действий для достижения своих целей, но не свобода выбора своих
целей!
Наличие чувств и эмоций. У него есть чувства, потому что у него есть
подсознание, и есть эмоции, потому что есть необходимость показывать свои
чувства другим системам.
Недостатки БУС с 1- сигнальной системой.
Как видим, усложнение систем происходило в основном за счет усложнения БУС и
это усложнение было необходимо для увеличения объема знаний БУС. Этот объем
наибольший у БУС с 1-й сигнальной системой. Но эти системы уже «уперлись в свой
потолок» развития, потому что дальнейший прирост знаний стал невозможным.
Система рождается с почти пустым багажем знаний, потому что кроме инстинкта у
нее ничего нет. И за свою относительно короткую жизнь БУС с 1-й сигнальной
системой должен успеть набрать весь багаж знаний и со смертью животного весь
этот багаж теряется безвозвратно. Мы видим, что на всем протяжении эволюции
целью увеличения способности знать было познание осознание окружающей
реальности. Но окружающая реальность настолько велика, что никакой
продолжительности жизни не хватит, чтобы объять необъятное. Это стало похоже на
сизифов труд – животное всю жизнь мучается, проходя через все ее трудности и
набирая знания, но потом все теряется с его смертью, а на смену приходит
потомство с такой же судьбой.
Выход был только один – сохранять накопленные знания после смерти
индивидуума. Это мог сделать только БУС с 2-й сигнальной системой.
4. Сложный вегетативный БУС (сложный вегетативный автомат).
У животных есть внутренние органы – сложные многоклеточные элементы системы
обмена веществ. Для их управления вышеописанного простого
вегетативного БУС уже недостаточно. Поэтому у животных, у которых появились
внутренние органы, появился сложный вегетативный БУС (рис. 43).
Сложный вегетативный БУС может быть различной степени сложности. Самый
сложный имеется у тех систем, у которых есть развитый головной мозг и развитые
внутренние органы. При этом все функции предыдущих БУС (простейшего, и обоих
простых) в сложном вегетативном БУС также присутствуют. Цель этого БУС –
создание координация действий между многоклеточными элементами исполнения
системы обмена веществ (внутренних органов), которая обеспечивает выработку
целевых результатов действий самой системы – «полная координация (баланс) между
всеми и/или компенсация недостаточности одних гиперфункцией других». Цель
достигается счет восприятия параметров элементов внутренней реальности
реальности, оценки их функции и принятия решения вегетативным инстинктом о
регуляции функций внутренних органов для их согласованной и координированной
работы.
Цель сложного вегетативного БУС – создать такую ситуацию внутренней
реальности, которая соответствовала бы ситуации окружающей реальности. Отсюда, у
нее есть множество подцелей:
- восстанавливать разрушенные СФЕ,
- управлять исполнительными элементами системы обмена метаболических газов
(легкими, желудочками сердца, сосудами и кровью) для удовлетворения
метаболических потребностей потребления кислорода и выделения углекислого
газа,
- управлять исполнительными элементами желез внутренней (гормональной,
простагландиновой и пр.) секреции для обеспечения нормального режима тканевого
метаболизма
- управлять системой пищеварения (железы внешней секреции, слюна,
пищеварительные соки и пр., перистальтика различных полых органов,
пристеночное пищеварение и всасывание и т.д.)
- управлять системой дезинтоксикации и выделения (функции почек, печени и
потовых желез)
- управлять системой терморегуляции (кожная сосудистая система, потовые
железы, тонус и тремор поперечнополосатой мускулатуры и пр.)
- управлять иммунной системой (стимуляция клеточных и гуморальных элементов,
антитела и пр.)
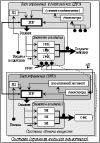
Рис. 43. Блок-схема системы с сложным БУС и БУС
вегетативной нервной системой.
БД – «база данных»; БПР – блок принятия решений; соматический инстинкт –
«база знаний и решений соматического инстинкта»; вегетативный инстинкт – «база
знаний и решений вегетативного инстинкта»; РВНС – рецепторы вегетативной нервной
системы; АП – афферентные пути, чувствительные нервы вегетативной нервной
системы.
Только путем выполнения всех этих действий возможно создание условий
внутренней реальности (сбалансированная функция внутренних органов и систем), в
которых возможна реализация соматических стереотипов системы, адекватная
ситуации окружающей реальности. Если не хватает, например, кислорода, у
опорно-двигательного аппарата не будет достаточно энергии, система не сможет
выполнить необходимые стереотипы соматических действий и цель системы не будет
достигнута.
Цель сложного вегетативного БУС достигается за счет секреторных и
двигательных реакций системы обмена веществ – сложных стереотипов действий,
очень сложных и многокомпонентных очередностей перистальтики пищевода, желудка,
секреции пищеварительных желез, кишечника, сложной координации абдоминального
кровообращения и функций почек и печени. И все это параллельно процессам
клеточной регенерации и репарации (генный механизм восстановления), уже
описанным выше.
Для этого сложный вегетативный БУС выполняет множество действий, чтобы
выполнить выше перечисленное множество подцелей, состоящих из восприятия
ситуации внутренней реальности, автоматического нахождения в памяти инстинкта
решений о своих действиях, соответствующих данной ситуации и стимуляции
элементов исполнения (железы внутренней и внешней секреции, двигательный
гладкомышечный аппарат, иммунная система и пр.) для выполнения стереотипов
вегетативных действий. Для этого у сложного вегетативного БУС есть дистанционные
рецепторы вегетативной нервной системы (РВНС) с анализаторами и «база знаний и
решений вегетативного инстинкта», потому он и сложный вегетативный БУС
(вегетативная подкорка – гипоталамус и стволовые структуры мозга).
БПР сложного вегетативного БУС выполняет множество функций. РВНС позволяют
ему «видеть» внутреннюю ситуацию и управлять ею. Этими рецепторами
являются различные хемо-, баро-, тензо- и прочие рецепторы, различной степени
сложности. В любом случае эти рецепторы несут информацию о внутренней реальности
– о состоянии внутренних органов.
Для оценки ситуации внутренней реальности так же необходимо сделать множество
действий. Нужно сделать селекцию сигналов из того множества
сигналов, которые возникают во внутренних органах, определить те структуры
органов, откуда приходят интересующие сигналы и т.д. Всем этим так же
занимаются анализаторы. Каждый анализатор анализирует и выделяет
ситуацию внутренней реальности того типа, на который расчитан. Есть мозговые
центры регуляции внутренних функций.
Далее происходит распознавание ситуации, подобно тому, как это происходит у
сложного соматического БУС. У системы есть уже готовая «база
знаний и решений вегетативного инстинкта» (вегетативный инстинкт), в которой
находятся описания параметров различных ситуаций с известным для каждой ситуации
решением. Сравнивая параметры реальной ситуации с описанной в
«базе знаний» она сможет выбрать соответствующее решение. Для
этого у блока управления есть готовая «база решений». Восприняв и
распознав ситуацию и приняв решение, сложный вегетативный БУС сразу же знает,
что делать, какой орган и как стимулировать. Содержимым этих «баз знаний и
решений» является вегетативный инстинкт, который система получает
извне в готовом виде при рождении. Инстинкт из «базы знаний и решений» загружает
в «базу данных» сложного вегетативного БУС параметры тех действий, которые
соответствуют готовому решению о вегетативных реакциях и система выполняет эти
действия. Причем, так же загружает не отдельные параметры действий, а стереотипы
действий – комплексы действий, определенные очередности отдельных действий,
которые система должна выполнить в соответствии с ситуацией. Таким образом
осуществляются сложные вегетативные рефлексы: пищеварение, акты дефекации,
реакции сердечно-сосудистой системы во время физических нагрузок и пр. Если
съесть чего-нибудь «не того», то можно получить диарею.
Системами с сложным вегетативным БУС являются животные, имеющие головной мозг
и внутренние органы: рыбы, рептилии, и все млекопитающие. Возможности сложного
вегетативного БУС у них разные и зависят от развитости мозга. У рыб и
земноводных, например, нет терморегуляции.
Преимущество животных с сложным вегетативным БУС перед более примитивными
животными в том, что они лучше управляют своей внутренней реальностью и лучше
подготовлены к своим поведенческим реакциям. Например, сложный вегетативный БУС
обеспечивает теплокровность животных, давая этим быстроту движений, что является
одним из главных условий конкурентной борьбы и выживания. Если бы птицы не были
бы теплокровными, они не могли бы летать, у них не хватило бы на это энергии.
Состав сложного вегетативного БУС (состав элементов управления
систем):
тот же простой вегетативный БУС (внутриклеточный генный механизм
регенерации и репликации), как и у растений,
рецепторы вегетативной нервной системы (РВНС) и
«база знаний и решений вегетативного инстинкта» (интрамуральные
ганглии, симпатическая и парасимпатическая нервные системы, вегетативная
подкорка).
Алгоритм сложного вегетативного БУС (рис. 44).
Алгоритм работы его БПР отличается от алгоритма БПР сложного соматического
БУС тем, что вместо рецепторов РВВ опрашивает рецепторы внутренних органов (РВО,
баро-, хемо-, термо- и прочие рецепторы внутренних органов). Если рецепция есть,
то он запрашивает БД, который формирует соответствующую сигналы для
стимулирования внутренних органов и таким образом стимулирует их соответствующую
реакцию, котору выполняет до того момента, пока она не станет должной. Таковым
является, например, вегетативный рефлекс Герринга-Брайера, стимулирующий нейроны
дыхательного центра регулировать глубину дыхания.
В легких есть барорецепторы, которые чувствительны к сдавливанию. Когда
начинается вдох, нейроны дыхательного центра стимулируют дыхательные мышцы,
которые тянут за ребра и растягивают грудную клетку. Ткани легких во время вдоха
постепенно растягиваются и сдавливают эти барорецепторы, которые постоянно
посылают сигнальные импульсы к нейронам дыхательного центра, частота которых
увеличивается по мере их сдавливания. Когда они будут сдавлены до определенного
предела, дыхательный центр прекращает стимулировать дыхательные мышци, они
расслабляются и перестают тянуть за ребра, грудная клетка спадает, воздух
начинает выходить из легких. Затем все начинается сначала, так осуществляется
цикличность дыхания. Это простой рефлекс, т.е., рефлекс по типу системы с
простым БУС.
Так работают все внутренние органы. В правом предсердии расположен так
называемый синусовый узел, который вырабатывает электрические импульсы,
возбуждающие мышцу сердца к систоле. Синусовый узел определяет частоту сердечных
сокращений (пульс). Чем выше давление в правом предсердии, тем выше частота
сердечных сокращений. Когда животное начинает бежать, мышцы ног периодически
сдавливают вены, кровь от них отжимается в сторону правого предсердия, давление
в нем растет и возбуждает синусовый узел. Частота сердечных сокращений сразу же
возрастает и нарастает до тех пор пока давление в правом предсердии не
стабилизируется. А это произойдет тогда, когда за счет увеличения пульса
возрастет насосная функция сердца и кровь будет оттекать из правого предсердия с
той же скоростью, с которой она притекает в него.
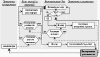
Рис. 44. Алгоритм работы сложного вегетативного БУС у
систем мира высших животных. БД – «база данных»; РВО – рецепторы внутренних
органов.
Если ситуация вегетативному инстинкту не знакома, это значит, что-то
происходит с внутренними органами, что неизвестно инстинкту и вегетативный БУС
не знает, что делать с этим, например, отравление. Он посылает чувство
дискомфорта и запрещает какие-либо желания действий. Если ситуация знакома, то
БУС определяет состояние внутренних органов. Если, например, желудок полный, то
он запускает стереотипы действий : секреция желудочных пищеварительных соков,
перистальтика желудка и кишечника в определенной последовательности и пр. Но
прежде этого он усыпляет соматический БУС, чтобы движения тела не мешали работе
внутренних органов.
Эволюционная роль сложного вегетативного БУС.
Если роль БПР сложного соматического БУС в эволюции сознания в
том, чтобы появилось Я, которое могло предупреждать разрушающее
влияние окружающей реальности за счет своих поведенческих реакций,
то роль сложного вегетативного БУС состоит в том, что он в
значительной мере увеличил возможности регенерации поврежденных
структур, обеспечивая организм животных всем необходимым (энергией
и строительными материалами – пищей) за счет более оптимального управления и
давая возможность качественно и количественно улучшить поведенческие реакции.
Благодаря наличию сложного вегетативного БУС животные получили значительное
преимущество и возможность выживания в экстремальных условиях. Благодаря этому
были заселены самые укромные уголки нашей планеты, включая полярные области.
Наличие двух и более Я – это повсеместное явление. У человека тоже есть его
собственное соматическое Я, с которым он себя идентифицирует, а вегетативное Я –
это Я его тела. У нас, у людей, вегетативное Я находится в подчиненном состоянии
нашему собственному Я. Но даже у нас это подчинение не на все 100%. Можем ли мы
сознательно управлять нашими жизненными функциями, например, регулировать
частоту сердечных сокращений, или только волевым напряжением затянуть рану на
теле? Между тем, частота сердечных сокращений меняется в зависимости от
функционального состояния тела (т.е., от того, как оно этого захочет исходя из
потребностей метаболизма) и раны затягиваются без нашего участия. Кто или что
этим руководит? Этим руководит вегетативное Я. Но соматическое Я человека
несравненно богаче своими возможностями, по сравнению с его вегетативным Я хотя
бы потому, что вегетативное Я думать не умеет, потому что это всего лишь сложный
БУС, а думать научились системы начиная только с БУС с 1-й сигнальной системой.
Я человека использует все возможности второй сигнальной системы, а вегетативное
Я может использовать всего лишь возможности сложного БУС (вегетативный
инстинкт).
Возможно, именно наличие двух Я, соматического и вегетативного, объясняет
наличие сна у животных. Вегетативное Я заинтересованно в неподвижности тела
(сомы) по трем причинам:
нужно регенерировать разрушенные нагрузкой внутриклеточные структуры, а
для этого нужен покой,
очистить клетки и внеклеточное пространство от продуктов клеточного
катаболизма (процессов распада высокомолекулярных веществ на
низко-молекулярные), для чего также нужен покой, и
внутренним органам нужно дать покой, чтобы они работали спокойно и
эффективно и не были «потревожены» движениями тела.
При движении вегетативное Я занято доставкой энергии к мышцам и нагруженному
мозгу. Поэтому крови недостаточно, чтобы притекать в необходимых количествах к
внутренним органам тоже. Кроме того, внутренние органы для нормального и
эффективного функционирования требуют своей неподвижности и покоя. Не зря удавы,
да и не только они, отрыгивают поглощенную пищу, если их потревожить и они
должны быстро двигаться. Днем животное бегает и добывает пищу. В это время ему
не до пищеварения и внутренние органы почти не работают. К вечеру, когда
животное уже набегалось и добыло пищу, нужно дать отдых мышцам, чтобы
восстановились все разрушенные за день перегруженные миофибриллы (СФЕ мышечного
сокращения). Процесс утомления – это процесс разрушения нагрузкой миофибрилл в
мышцах. Утомление полностью проходит только тогда, когда они получили
неподвижность – условия, в которых без помех происходит процесс регенерации
разрушенных миофибрилл за счет работы генного механизма регенерации, который
выращивает новые миофибриллы.
Вероятно, подобные же процессы необходимы и перегруженным за день нейронам
головного мозга. Этим занимается мощный внутриклеточный регенеративный
генетический аппарат, выращивая изношенный нейронные структуры. Сами нейроны как
клетки не размножаются, но в них происходят мощные процессы регенерации
изношенных структур.
Кроме того, нужно «промыть» клетки и внеклеточное интерстициальное
пространство мышц и мозга от продуктов жизнедеятельности клеток (клеточного
катаболизма) и этим «занимается» лимфатическая циркуляция. Это тоже требует
неподвижности.
Усиленный кровоток к внутренним органам необходим для продукции различных
пищеварительных соков и секретов различных желез внутренней секреции, для
осуществления всей биохимии пищеварения. Днем кровоток «занят» доставкой
кислорода в мышцы и мозг и вымыванием из них углекислого газа. На ночь кровоток
нужно освободить для обслуживания внутренних органов.
Поэтому вегетативное Я (гипоталамус, вернее, шишковидная железа – эпифиз)
вырабатывает гормон мелатонин, который запускает целую цепь секреторных действий
различных органов и тканей мозга (запускает стереотип сна), включая выработку
эндорфинов, которые образуются из вырабатываемого гипофизом вещества —
беталипотрофина (beta-lipotrophin); считается, что они контролируют деятельность
эндокринных желез в организме человека и приводят человека в состояние эйфории и
сна. Их иногда называют «природным наркотиком» или «гормоном радости». Любовь,
творчество, слава, власть — любое переживание, связанное с этими и многими
другими категориями человеческого существования, повышает уровень эндорфина в
крови. Но его основное назначение – эндогенный природный наркотик, приводящий
кору головного мозга в состояние сна [60]. Другими словами,
вегетативное Я на ночь усыпляет животное, вырабатывая мелатонин и
обеспечивает себе оптимальные условия работы.
Утром, когда все процессы восстановления и работы системы обмена веществ
закончены, гипоталамус выделяет серотонин – вещество, являющееся
химическим передатчиком импульсов между нервными клетками человеческого мозга и
контролирующее аппетит, сон, настроение и эмоции человека и будит его. В
результате животное просыпается выспавшимся, бодрым и свежим, готовым к новым
дневным приключениям.
Таким образом, соматическое Я животного заставляет его бегать днем и добывать
пищу. А вегетативное Я днем обслуживает соматическое Я и его элементы исполнения
(головной мозг и мышцы), а ночью отключает соматическое Я и «вгоняет» его в сон,
чтобы ничто не мешало ему выполнить собственные нужды.
Функциональные возможности сложного вегетативного БУС.
Он может в значительной мере контролировать внутреннюю реальность путем
координации функций внутренних органов систем организма животных. Теплокровные
позвоночные могут летать только потому, что у они могут вырабатывать достаточное
для полета количество энергии. У холоднокровных не хватает продукции энергии для
полета. Только терморегуляция обеспечивает стабильные функции внутренних органов
и лучшие поведенческие реакции на ситуации окружающей реальности. Киты дышат
воздухом, но могут нырять на глубины более километра без особого вреда для
своего здоровья.
Сложный вегетативный БУС является неотъемлемой частью более сложных БУС. У
таких более сложных БУС (самообучающихся, с первой и с второй сигнальной
системами) произошло распараллеливание задач. Эти более сложные БУС взяли на
себя контроль окружающей реальности, а сложный вегетативный БУС – контроль
внутренней реальности. Это «государство в государстве», система контролирует
окружающую реальность, а ее сложный вегетативный БУС контролирует ее нутро.
Поэтому, сами системы с сложным вегетативными БУС являются субъектами,
но сложный вегетативный БУС является объектом, его решения
однотипные, потому что взяты из памяти вегетативного инстинкта, который для всех
однотипных систем одинаковый. Системы всегда в ответ на одно и то же
внешнее воздействие дают одну и ту же реакцию, всегда делают одни
и те же действия, производят один и тот же результат действия. У
всех животных одного вида одинаковая физиология. Я сложных вегетативных БУС
абсолютно похожи, они всегда «хотят» одно и то же. Поэтому они объекты.
Условные рефлексы являются принадлежностью систем, у которых БУС с 1-й или
2-й сигнальной системой. Поэтому, условные вегетативные рефлексы
на самом деле являются условными соматическими рефлексами, потому
что сложный вегетативный БУС не может самообучаться. Но соматический БУС с 1-й
или 2-й сигнальной системой имеет глубокие связи с сложным вегетативным БУС.
Отсюда происходят условные рефлексы, связанные с вегетативными функциями.
Возможности сознания сложного вегетативного БУС.
Основным инструментом управляющих функций сложного БУС являются сложные
вегетативные рефлексы – вегетативный инстинкт. Они основаны на
использовании рецепторов вегетативной нервной системы (РВНС) для восприятия
актуальной ситуации внутренней реальности и «базу знаний и решений вегетативного
инстинкта», в которой находится готовое решение о поведенческих реакциях
животного, соответствующее актуальной ситуации. У Я сложного вегетативного БУС
сознания нет, но есть предсознание, как у растений.
Осознание своего Я. У сложного вегетативного БУС есть ощущение своего Я,
но нет его осознания.
У каждого из нас, у людей, есть очень выраженное Я, которым являемся мы сами,
которое всегда пытается сделать то, что оно хочет (что мы хотим) и для этих
действий мы используем свое тело. Но нам всем известно, что мы не владеем нашим
телом на все 100%. При крайней степени усталости наше тело вообще перестает нас
слушаться и мы «вырубаемся», засыпаем, теряем сознание или просто перестаем
двигаться. В случае острой и внезапной нужды (приспичило) нам чрезвычайно трудно
сдерживать наши физиологические отправления. Тело что-то хочет и нам чрезвычайно
трудно сдерживать его «хотение». Выпивая лишнее спиртное мы затуманиваем наше
сознание, но Я нашего тела продолжает нормально функционировать. Но на следующий
день, когда мы трезвеем, наступает синдром абстиненции – вегетативная подкорка
«бунтует», потому что ей приходится возмещать те биохимические сдвиги, которые
возникли из-за алкоголя, и это выражается к клинических проявлениях типа
головных болей, тошноты и пр. Нам известны клинические случаи «потери мозгов»
(потери соматического Я), когда человек превращался в «растение», например,
после обширных кровоизлияний в мозг. Сознание человека исчезало, но тело
продолжает жить, исправно выполняя все физиологические функции: пищеварение,
акты дефекации, мочеиспускания и пр. Это и есть демонстрации независимого
существования двух Я в нашем теле: того Я, которое мы ощущаем, как нас самих, и
второго Я, подчиненного нам – Я нашего тела.
Каждая система нашего тела, включая каждую клетку и ее элементы, обладает
своим Я. Наше главное Я, то, чем являемся мы сами, контролирует вегетативное Я,
сложный вегетативный БУС, а тот контролирует все остальные Я, согласно иерархии
систем нашего организма. Как правило, если мы здоровы, мы этого не чувствуем,
потому что все эти Я подчинены нашему главному Я. Но мы это начинаем чувствовать
очень сильно, когда эти Я выходят из подчинения вегетативному Я, потому что в
таких случаях возникают болезни. Любая болезнь организма – это выход из под
контроля сложного вегетативного БУС каких либо его подсистем или СФЕ. Чувство
внутреннего комфорта является интегральной оценкой функционирования внутренних
органов.
Наше соматическое Я также состоит из множества различных Я, которые в норме
очень точно сбалансированы и согласованы. Но нам известны случаи расщепления
личности, когда это множество соматических Я теряют баланс между собой и
возникают различные психозы и прочие психические нарушения.
Осознание внутренней реальности. У сложного вегетативного БУС есть
осознание своей внутренней реальности, у него есть предсознание,
как у растения.
Осознание окружающей реальности. У сложного вегетативного БУС нет
восприятия окружающей реальности, потому что вместо этого у него есть полное
восприятие внутренней реальности системы, которая является для него тем же, чем
является окружающая реальность для сложного соматического БУС.
Наше тело само по себе не может ни двигаться, ни воспринимать ситуацию
окружающей реальности, потому что оно управляется только сложным
вегетативным БУС. Оно как растение, может только расти и «залечивать
раны». Видеть окружающую реальность, принимать решения и выполнять поведенческие
реакции – это прерогатива только сложного соматического БУС.
Наличие чувств и эмоций. У него нет чувств и эмоций, потому что нет
сознания.
Недостатки сложного вегетативного БУС.
Основным недостатком сложного БУС является та же ограниченность «базы знаний
и решений вегетативного инстинкта». Невозможно иметь «базу знаний и решений», в
которой описаны все ситуации, которые уже были есть и еще будут в Мире и, тем
более, нет готовых решений на эти ситуации. Различные приключения в жизни систем
приводят к значительным смещениям и «поломкам» их организма, к дефектам.
Естественно, появляются ситуации внутренней реальности, неизвестные
вегетативному инстинкту и на которые у него нет готовых решений. Поэтому эти
ситуации приводят к процессам нарастания числа дефектов – хроническим болезням,
которые, как снежный ком, нарастают, благодаря механизму порочного круга
[8, 9].
Именно из-за этих недостатков сложного вегетативного БУС человек развил
медицину – технологию исправления и восстановления нарушений своего организма.
Медицина – это искусственная и внешняя от организма система обмена веществ,
которая использует «базы знаний и решений», заполненные знаниями поколений
людей. Следовательно, медицина – это система, у которой БУС с 2-й сигнальной
системой. Но основным элементом этого БУС является головной мозг человека, т.е.,
БУС с 2-й сигнальной системой человека.

